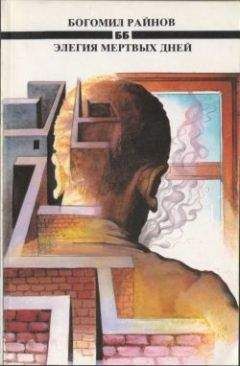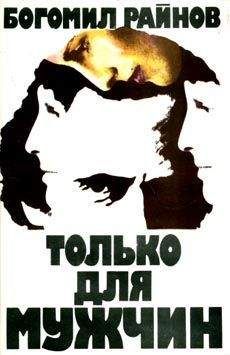Богомил РАЙНОВ - РЕКВИЕМ
— Делал отпечатки замочных скважин. Женщина сказала, что, как только я оставлю их в почтовом ящике Касабовой, я в тот же вечер найду там ключи; с ними гораздо удобнее, не будет нужды всякий раз канителить-ся с отмычками, да и таскать их с собой рискованно.
Парень отвечает как автомат, не задумываясь. Но, вероятно, мысль все же пробуждается в его мозгу, потому что на его бледном, апатичном лице неожиданно проступает изумление.
— А вам известно, что я минувшей ночью был в мансарде?.. Вы что, следили за мною?..
— А как ты думал?
— Значит, все то, что я рассказал, вам ни к чему, вы это и без меня знаете...
— Знать — это одно, и совсем другое — услышать от тебя. Особенно важно, что ты об этом рассказываешь, прежде чем мы начнем тебя спрашивать и прежде чем ты опустил эту фиговину в почтовый ящик Касабовой. — И, указав на неглубокий шрам у его виска, добавляю: — Случившееся напоминает историю этой отметины. Очень уж скверно ты поскользнулся, мой мальчик. Очень уж опасно твое новое падение. Но рана твоя не смертельна. Поправишься и пойдешь своей дорогой.
— Куда? — с прежним равнодушием спрашивает парень, однако напряжение на его лице заметно растаяло.
— Да, уместный вопрос. Вопрос жизни. Но, прежде чем мы вернемся к нему, я тоже хочу поставить перед тобой вопрос: так ли сильна в тебе жажда потреблять эту отраву, что за несколько доз морфия ты готов пойти на самое страшное?
— Я ее не потребляю..
— Боян!.. — предупредительно поднимаю указательный палец. — Раз ты уже заглянул в нашу кухню, не в эту, а в ту, служебную, скажу тебе честно, что я собственными глазами видел, как ты вгонял шприц...
— Это был не морфий, — прерывает меня парень с легкой досадой на лице. — Я один-единственный раз принял морфий, и, если хотите знать, меня только стошнило от него. С тех пор я колю витамин С — он такого же желтоватого цвета и тоже по два кубика в ампуле.
— Вот оно что, витаминами себя поддерживаешь... А зачем тебе морфий?
— Для матери...
Если бы он вместо того, чтобы сказать это, нацелил мне в голову пистолет, меня бы это меньше потрясло. «Для матери»... Какое неожиданное решение совсем простой загадки, совершенно нетрудной и все же до сих пор остававшейся нерешенной, и только потому, что мы не вспомнили о существовании еще одного человека.
Озадаченный моим молчанием, парень смотрит на меня с недоумением: то ли я не расслышал, то ли не поверил.
— Прежде, когда я был при ней, она находила успокоение в том, что изливала при мне свою муку, рассказывая, как много она сдедала для отца и как он вечно отравлял ей жизнь, оплакивая его или проклиная, понося и его и вас... Она из тех людей, которые способны повторять одно и то же сто раз, тысячу раз, одними и теми же словами, на один манер, и можно с ума сойти, слушая ее, а сама она после этого успокаивается... Выговорится, обессилеет и утихнет на час или на два, потом опять. Но я терпел, как-никак она мне мать, и, кроме меня, у нее не было другого близкого человека, терпел потому, что она была права, во всяком случае, мне казалось, что она права, хотя теперь я уже не знаю, насколько это верно... А когда меня забрали в армию, это стало для нее настоящей трагедией и она все повторяла, что когда я вернусь, то не застану ее в живых... Застать-то я ее застал, но в каком состоянии... Одна кожа да кости и такой взгляд, такие глаза, что не узнать, как будто она лишилась рассудка.
«Как будто она сошла с ума», — наверное, готовится сказать Боян, но, проглотив эту фразу, молчит какое-то время, затем продолжает:
— Пока меня не было дома, она сдружилась с какой-то женщиной, которую знала в молодости, и та научила ее убаюкивать свое горе. Скрываясь у нас на квартире от своих близких, она приносила матери ампулы, получаемые от какой-то лаборантки. Первое время мать говорила мне, что уколы, которые она делает, назначил врач для лечения нервов, но потом лаборантку прогнали, морфий было неоткуда брать, и тут мне все стало ясно: мать начала меня просить, умолять, заклинать, чтоб я нашел ей морфий, и грозилась тем, что она сойдет с ума, если я не найду, что она отравится, выбросится из окна... Однажды я действительно едва успел стащить ее с подоконника. С тех пор меня стала преследовать мысль, что в один прекрасный день, возвращаясь домой, я увижу ее распростертой на тротуаре с разбитой головой. И чтобы предотвратить беду, я готов был на все, и самым верным средством добывать морфий оказалась знакомая вам компания: в нее я вошел только ради того, чтобы иметь ампулы, а так как там не терпят чужаков и зевак, мне приходилось делать вид, что я такой же, как и они.
— Ясно, — киваю я, когда парень замолк. — Ты полагал, что спасаешь мать, а по существу, она толкала тебя в пропасть.
— Она несчастная женщина, — тихо произносит Боян.
— Не спорю. И мне понятны твои сыновние чувства, — говорю не слишком уверенно, так как сам не помню своей матери. — Но она оказалась слабым человеком.
— Да, она слабая, она совсем беспомощная, — подтверждает юноша.
— А такие вот слабые, мой мальчик, подчас таят в себе опасную силу: мало того, что сами добровольно ложатся в могилу, но и тебя заодно готовы похоронить.
— Она несчастная женщина, — стоит на своем Боян.
— Согласен. Только путь, по которому ты пошел, чтобы вырвать ее из беды, ни к чему хорошему не приведет. Твоей матери необходимо лечиться.
— Не смейте! — вскакивает на ноги парень, и это его первая живая реакция. — Она мне сказала, что где-то прячет у себя цианистый калий и что она тут же покончит с собой, как только попытаются ее увезти.
Я молча размышляю, он глядит на меня с мольбой.
— Не делайте этого, прошу вас! Оставьте ее в покое, хотя бы на время. У нее сейчас достаточно ампул. Примет дозу и присмиреет. Зачем ее губить?..
— Ладно, — киваю я. — Пока отложим этот вопрос.
— А что будет со мной?.. Мне-то что делать? — Ничего. Будешь продолжать шпионить.
Он смотрит на меня большими глазами.
— Да, да, будешь продолжать шпионить.
Я встаю, чтобы покрепче закрутить кран, чьи капли стучат мне по нервам. Но, как я ни стараюсь, кран продолжает протекать, и я снова прихожу к мысли, что в ближайшие дни надо будет заняться им как следует. Махнув рукой на кран, я переношу взгляд на Бояна.
— А теперь слушай меня внимательно: до сих пор все у тебя складывалось довольно скверно, все шло кувырком, сплошное невезение. И если даже согласиться с тем, что ты руководствовался вполне человеческими побуждениями, от этого суть дела не меняется. А сегодня, вот сейчас ты впервые поступил по-мужски, явившись ко мне и честно рассказав обо всем. Потому и я буду говорить с тобой по-мужски. Ты включился в преступную игру, однако вовремя опомнился, хотя игра уже началась. И затеяли ее не какие-то предприимчивые торгаши, а вражеская тайная агентура. Поэтому игра должна продолжаться до тех пор, пока эта агентура не будет полностью раскрыта. Поэтому затеявшие игру не должны догадываться, что мы уже кое-что знаем. Следовательно, и в дальнейшем все должно идти так, как будто мы совершенно не в курсе дела, с той лишь разницей, что твоя шпионская деятельность будет не действительной, а мнимой. Тебе ясно? — И чтобы он окончательно уяснил, что к чему, я уточняю: — Негативы, которые тебе велено оставлять в почтовом ящике Каса-бовой, ты будешь получать от нас. А в мансарде снимать тебе ничего не придется, но всякий раз ты должен там оставаться столько времени, сколько тебе потребовалось бы, если бы ты снимал.
— Зачем же мне зря карабкаться наверх?
— Вовсе не зря, потому что ты, вероятно, будешь под наблюдением. И уже не под нашим. И поскольку мы пока что не знаем, когда и кто именно будет вести за тобой наблюдение, и ты не должен вызвать у них ни малейшего подозрения, тебе следует все делать так, как будто ты действительно шпионишь.
— Понимаю.
— И еще одно: запугивания той женщины — она вовсе не жена коммерсанта, а секретарша иностранного дипломата, — не пустые слова. Так что гляди в оба, чтобы не попасть впросак.
— Я их не боюсь.
— И хорошо, но это не основание для безрассудных действий. Опять же с учетом всех этих обстоятельств тебе больше не следует приходить ко мне на квартиру. Если потребуется, можешь мне звонить или сюда, или на службу. Зашел на улице в кабину и звони, но так, чтобы тебя никто не слышал. Если все же нам будет необходимо встретиться, я скажу тебе, куда прийти.
Я прячу кассету в карман и закуриваю.
— Пять часов, — говорю. — Мне придется отнести эту фиговину куда следует и принести тебе другую, чтобы ты мог положить в ящик Касабовой. Если тебе хочется чего-нибудь выпить — в шкафу стоят бутылки. И если услышишь какой шум в комнате, не пугайся. Я, как ты мог понять, не один в квартире.
Пока я одеваюсь в спальне, Маргарита ворочается в постели и спрашивает спросонок: