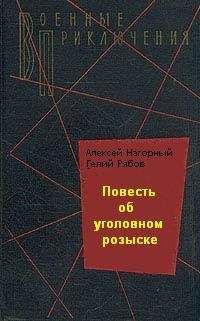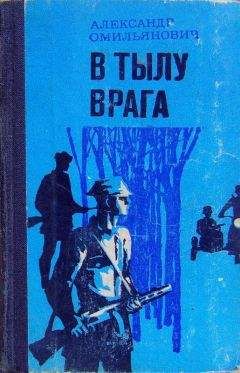Алексей Нагорный - Я — из контрразведки
Марин вышел в коридор. У вешалки стоял высокий, плечистый человек в простой косоворотке под поношенным пиджаком, коротко стриженный, с усами, черными нависшими бровями и острым взглядом больших коричневых глаз.
— Меня к вам направил товарищ Артузов, — сказал Юровский. — Предупредил, что срочно, да, признаться, я и сам завтра уезжаю из Москвы, так что не обессудьте за столь поздний визит.
— Чем могу служить? — Марин пропустил Юровского в столовую. — Тетя, дайте нам чаю.
Алевтина Ивановна ушла на кухню.
— Меня зовут Яков Михайлович, — сказал Юровский. — Служить вы мне не можете. Скорее, наоборот. Я— председатель Уральской губчека. Так что, Сергей Георгиевич, задавайте вопросы.
— Все понял, — рассмеялся Марин. — Спасибо, что пришли.
Алевтина Ивановна принесла чай в подстаканнике и, неприязненно взглянув на Юровского, ушла.
— Не понравился я вашей маме, — сказал Юровский. — Моей матери примерно столько же лет…
— Дело не в этом, — улыбнулся Марин, — тетя с трудом воспринимает перемены, а вы слишком очевидно принадлежите к тем, кто «был ничем». Она знает «Интернационал» наизусть и на дух его не принимает. Ну, о тете всё. Теперь вопросы. Фамилия «Крупенский» вам что–нибудь говорит?
— Да. Летом 18–го мы вышли на группу заговорщиков — офицеров Академии генерального штаба. Эта академия случайно застряла в Екатеринбурге и вынуждена была существовать там уже при Советской власти. Так вот, среди этих гадов был и Крупенский. Владимир, если не ошибаюсь.
— Он. Какова его роль в заговоре?
— Была? — уточнил Юровский. — Через монахинь монастыря он выходил на связь с Романовыми, дирижировал этим делом. Так можно сказать…
— Яков Михайлович, подумайте: перед вами Крупенский, но вы не очень уверены в этом, хотите уточнить. О чем вы его спросите, чтобы убедиться? С позиций екатеринбургских событий, разумеется.
Юровский задумался, потом сказал:
— Я бы вот о чем спросил: «Как выглядела та комната, в доме инженера Ипатьева, в которой были расстреляны Романовы? Что было написано на обоях, над тем местом, где упала после выстрела служанка Демидова?» Вполне достаточно, я думаю… Крупенский был в этой комнате. Сразу же, как войска Колчака взяли Екатеринбург, он оказался в следственной комиссии Соколова и Дитерихса. Все видел собственными глазами, так что на такой вопрос настоящий Крупенский просто обязан ответить…
Юровский положил па стол ученическую тетрадку:
— Товарищ Артузов попросил меня все записать. Здесь вы найдете даже мелочи. Если в нашем деле они вообще существуют, — едва заметная усмешка тронула губы под усами. — Сергей Георгиевич, поздно, я должен идти. — Он встал и направился к дверям. От его плотной тяжеловатой фигуры исходила какая–то странная сила и уверенность.
— Скажите, — остановил его Марин, — расстрел Романовых произвели вы? Поймите правильно, это не праздное любопытство, это психология. Если вам неприятно почему–либо говорить, считайте, что я не задавал этого вопроса.
Юровский молча и не мигая смотрел Марину прямо в глаза.
— Знаете, вы все это неверно себе представляете. Да, Романовых расстрелял лично я. Вы говорите «психология», и я так понять должен, не испытываю ли я угрызений совести или мук души? Нет, не испытываю. Двое из команды тогда отказались стрелять. Мы их отпустили. А я? — Он пожал плечами. — Попробую вам сформулировать. Вот товарищ Ленин, например, как он говорит? «Диктатура пролетариата есть власть, никакими законами не ограниченная, и опирается эта власть на насилие». Это первое. Второе. Романовы триста лет давили народ и пили его кровь. Они исторически были обречены: и государственно и лично. Это вроде бы оправдание? Нет, разъяснение. Я действовал по убеждению, во имя революции, для блага народа и государства. Знаете, пройдет время, улягутся страсти, потомки рассудят, кто есть кто. Кто казнил по воле народа, кто казнен…
Он надел фуражку. Лицо его стало жёстким, и взгляд непримиримо блеснувших глаз кольнул Марина.
— Стыдиться и скрывать здесь нечего и незачем. Хочу верить, что и те, счастливцы, которые будут жить после нас, будут исповедовать эту простую истину: мы пролили черную кровь, мы с корнем вырвали самую мысль о возврате самодержавия. Не–ет, нам нечего стыдиться и нечего скрывать. — Он вдруг улыбнулся и тронул Марина за плечо: — Знаешь, браток, в нашем с тобой деле, в нашей профессии слюнтяйство никак не уместно. Вот некоторые слюнтяи из Уралсовета не разрешили мне сразу же по моем вступлении в должность коменданта обыскать Романовых. И в итоге республика лишилась колоссальных ценностей. Ты можешь мне верить. Я в этом деле знаю толк, я ведь был и ювелиром тоже.
— Но ведь у них все было отобрано Временным правительством? — спросил Марин.
— После расстрела я обнаружил полпуда бриллиантов, — сказал Юровский. — Это 8 килограммов, это 8 тысяч граммов, это 40 тысяч каратов первоклассных камней. А сколько они успели рассовать по надежным людям, спрятать? Нет, друг, ты меня еще вспомнишь. Придет день, и мы, ЧК, вынуждены будем заняться этой историей. Она еще не кончена. — Он крепко, до боли стиснул ладонь Марина. Громыхнула входная дверь.
Алевтина Ивановна выглянула с кухни, спросила:
— Ушел? Ну и слава богу.
— Не понравился?
— Не приведи господь. От этого человека веет преисподней.
' — Нет, тетя, — жестко сказал Марин. — Вы неправы. На долю этого человека выпала не самая легкая работа в революции. Не каждый бы это смог на его месте.
Зазвонил телефон. Марину ни с кем разговаривать не хотелось, и он жестом предложил взять трубку Алевтине Ивановне. Она долго слушала, потом сказала:
— Хорошо, я ему передам. Сейчас его нет дома.
— Кто это?
— Дежурный. — Она посмотрела Марину прямо в глаза. — Он сказал, что тебя срочно желает видеть задержанный «беляк». Кто это?
— Еду, — Марин натянул куртку. — Спокойной ночи, тетя.
— Сережа, кто этот «беляк»?
— Тетя, ваши мистические прозрения мне совершенно ни к чему, — едва сдерживаясь, сказал Марин. — Заприте дверь, я буду через час.
Его и в самом деле хотел видеть Крупенский, об этом сообщил дежурный прямо с порога.
— Что у него за пожар, — вздохнул Марин, — утро вечера мудренее, а я устал.
— Не мудренее, — сказал дежурный. — У Крупенского утра не будет.
— Когда постановили?
— Только что. Ему уже объявлено.
И снова он застал Крупенского лежащим на койке.
— Отдаю должное твоим нервам.
— А я снова заявляю: они у меня ни к черту!
— Я слушаю тебя.
— Что?! Ах, да… Ты так понял, что подполковник Крупенский перед казнью желает сделать важное признание.
— А разве нет?
— Да! Но не в том смысле, в каком ты думаешь. Слушай меня внимательно: тебя решено послать вместо меня?
— Решено.
— У–у… откровенно. Впрочем, я ведь уже труп. Не важно, я продолжаю. В прошлый раз я пообещал тебе тьму восторгов с того момента, как ты станешь Крупенским. Так вот, хочу добавить: я сказал почти все. Но… есть одна маленькая деталь. Она лежит на пове-ерхно–сти, Сережа… Ни ты, ни твои начальники не догадаетесь о ней, и не потому, что вы дураки. Просто невозможно догадаться, понимаешь? Я выражаю твердую уверенность в том, что эта деталь приведет тебя туда же, куда уйду через час–другой и я. Желаю удачи, господин Крупенский. И про–о–щайте, адье…
— Прощай, — Марин вышел из камеры.
По пути в дежурную часть он размышлял над поступком Крупенского, но ни к каким выводам не пришел, и только в машине, по дороге домой понял: Крупенский хотел выбить его из колеи и, кажется, достиг этого, потому что наверняка знал: об этом разговоре Марин не скажет руководству ВЧК пи слова. Нельзя сказать, ибо все построено на весьма тонком и деликатном обстоятельстве и состоит оно в том, что заявление Марина может быть воспринято как сомнение, или даже трусость, или даже ложь, кто знает… А не хочет ли Марин отвертеться от выполнения безнадежного задания? И в самом деле, что сказать Дзержинскому? «Крупенский умолчал о некоей детали, которая приведет меня на плаху». Ах, как точно все рассчитал этот мерзавец… Ну, допустим, он, Марин, сейчас, немедленно известит Дзержинского. Привезут Крупенского на допрос, и скажет Крупенский, улыбаясь и пожимая плечами: «Помилуйте, господин Дзержинский, о чем речь, какая «деталь»? Вам не кажется, что ваш сотрудник просто трусит?» Нет, Крупенскому, конечно, не поверят, но и его, Марина, конечно же, не пошлют. Пойдет другой, пойдет на верную гибель… «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только для себя, тогда зачем я?»
Утром Менжинский вызвал Марина на служебную дачу в Нескучный. Моросил дождь. Серая гладь Москвы–реки подернулась серебряной рябью.
— Плохо себя чувствую, — смущенно улыбнулся Менжинский, — одышка, слабость. Покорнейше прошу простить, что заставил вас тащиться в такую даль. Как настроение?

![Алексей Нагорный - Повесть об уголовном розыске [Рожденная революцией]](/uploads/posts/books/153335/153335.jpg)