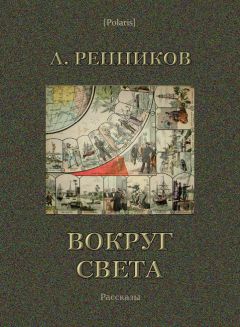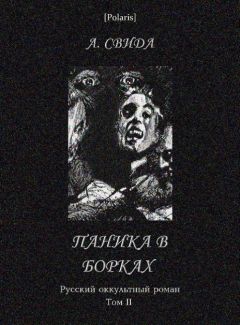Петр Пильский - Тайна и кровь
— Как будто и мне это казалось… Только я думать об этом не смел.
Потом спросил:
— Куда подать?
— Да хоть сюда.
— В котором часу?
— Вечером. В и.
Мне никуда не хотелось идти. Какой страшный день!.. Это бегство, эти поднимающиеся потолки, скользкие крыши; вся эта эквилибристика, фокусничество, какой-то безумный авантюризм… Это было похоже на американскую фильму. Потом потрясающий разговор с Леонтьевым.
Как трудно! Как больно! Как холодно и страшно!
— Я останусь у тебя, — сказал я Кириллу. — Мне некуда идти…
— Ну что ж, пожалуйста. Отдохни! Захочешь поесть, возьми из этого шкапа. Только вот что: раз уж ты пришел, не выходи! А впрочем, я тебя запру, а ты сиди и жди меня.
Я остался один.
Только измученные люди понимают эту радость остаться в четырех стенах наедине с самим собой. Я прилег. Сна не было.
Я встал и прошелся по комнате. Горела голова. Пляшущие, треплющиеся нервы заходили, опережая шаг, будто я не шел, а бежал, скакал, мчался, летел.
Через минуту я поймал себя на том, что говорю вслух. И я, действительно, говорил.
Да, убить Варташевского для меня все еще казалось величайшим преступлением. Этот момент его убийства я не мог себе представить. Казалось, в последний момент у меня опустятся руки…
…Вот я уже занес револьвер, но он взглянул на меня своим ясным, теплым, таким знакомым взглядом… Решусь ли я?
Я подходил к графину, наливал воду и снова вышагивал комнату по диагонали, от угла к углу. Наконец, изнемог.
Сжав голову обеими руками, я бросился на кровать:
— Надо забыться! Попробую уснуть!
В 11 часов вернулся Кирилл.
— Лошадь подана, — сказал он, вваливаясь в комнату в толстом, тяжелом и щегольском армяке лихача.
Он поправился на козлах, подвернул под себя полу, застегнул фартук, разобрал вожжи, напружинился и подался вперед. Рысак рванул.
Маленькая пролетка-одиночка мягко катилась, чуть-чуть вздрагивая и подпрыгивая на неровностях камней. Мы оба молчали. Мыслей не было. Ничего не было! Я ехал, как пустой, и минутами мне казалось, что я не еду, а меня куда-то везут.
Темная, немая ночь, темное, немое небо легли на Петербург. Вдруг исчез камень. Мы катились по немощенным улицам.
— Подъезжаем, — бросил, повернув голову, Кирилл.
По обеим сторонам тихо спали небольшие деревянные дома. Это была Новая Деревня.
Здесь жил Варташевский.
XIII. Казнь
На мягком грунте рысак пошел шагом. Покачивалась пролетка. Я смотрел на толстый кучерской зад Кирилла, обводил глазами уснувшую деревню и ни о чем не думал. Не хотелось думать.
Кирилл спросил:
— Подать к самому дому?
Машинально и нехотя я ответил:
— Подавай!
Я шел на убийство. Такие акты обдумываются заранее. Мало ли что может случиться!
…Ну, прежде всего: Варташевский сейчас один или не один? Если в квартире никого больше нет, его можно уложить тут же, сразу, без разговоров, без объяснений, без кощунства добрых и заманивающих слов, без змеиных поцелуев.
Но если там еще кто-нибудь, — тогда?..
Я ничего не предрешал.
Вероятно, во всем мире с самого дня его возникновения не было более пассивного убийцы, чем я. Без мысли, без плана, без всяких предосторожностей, как дикарь с камнем, я шел на этот страшный акт мести и искупления. Но я даже не волновался.
Удивительно!
Даже профессиональные убийцы испытывают колебание, трепет, боязнь. У меня не было ничего.
Как молнии, как вспышки, как невесомые воздушные птицы, пролетали то далекие, то близкие воспоминания, спутывались, пропадали и возникали вновь.
Вставали видения:
— Вот, в этой Новой Деревне я когда-то весело кутил. Пели цыгане, журчала гитара, пенилось вино, на счастье табору мы бросали золотые монеты в бокалы шампанского, черноокая Паша с полными красными губами затягивала песню привета: «Как цветок душистый…» И, наклонясь к моему уху, звенело ласковым призывом, убаюкивающей радостью и разгулом: «Выпьем мы за Мишу, Мишу дорогого…»
Милая Паша! Если бы ты видела меня в эту минуту…
Тогда она гадала «Мише» Звереву на картах и по руке, — что предсказала бы она сейчас ночному убийце Владимиру Брыкину, идущему на новый ужас, окруженному тенями, опасностями, тайной и кровью?
Кирилл подался назад, натянул вожжи. Конь остановился.
Я вылез.
За оградой, в палисаднике стоял деревянный домик. В двух последних окнах светился огонь: горела керосиновая лампа.
Кирилл лениво сказал:
— Буду ждать здесь. Там на пролетке не проедешь…
Я открыл калитку.
На одну короткую секунду меня объяло уныние. Уныло и безропотно торчали тощие, короткие деревья палисадника, уныл был трехступенчатый вход, уныло и криво свесилась проволока звонка.
— Ну, готовься же! — говорил мне кто-то велительный и строгий.
— С чего ты начнешь? — спрашивал неумолимый голос, и в нем говорила решимость и воля, последняя воля усталого палача.
И ему отвечали не сознание, не рассудок, не обдуманность, а что-то другое… Что? Может быть, сердце? Нет! Это, отмахиваясь и заслоняясь от грозных призраков кровавой неизбежности и терзаний духа, откликалась моя сонная, изнасилованная совесть.
— Надо только войти! Так просто! Поздороваюсь… Почему не поздороваться? Это так естественно. Потом все произойдет само собой.
— Иди же! — подталкивал я сам себя.
— Ну, вот, одна ступенька… другая… третья…
Надо было браться за ручку звонка.
И вдруг я сразу встряхнул себя. Так когда-то я вытягивался на смотрах.
Внутренне я командовал себе:
— Смирно! подтянись! Возьми себя в руки!.. Так! Правильно!.. Теперь дерни звонок!
За обгрызенную, жалкую деревянную рукоятку я дернул сильным движением правой руки и почти тотчас же стукнул в дверь согнутым указательным пальцем — раз и другой.
Затаил дыхание и ждал.
— Кто там?
Голос Варташевского.
— Это я.
Произношу эти два таких простых, таких коротких слова, но сам слышу, что хриплю. Осекается мой голос, мое сердце нервно и трепетно бьется, мне кажется, что я готов упасть, так слабы и неверны мои ноги.
— Смирно!
Я напрягаю мускулы, я чувствую, какими выпуклыми сразу становятся мои икры.
— Кто?
— Зверев.
Из-за двери — приветливый возглас:
— Ах, это ты, Миша?
Ах, почему он сказал «Миша»? Зачем эти теплые ноты? Почему не «Зверев»?
— Я.
— Эк, когда тебя занесло… Сейчас отопру.
Легкие, быстрые шаги удаляются. Он пошел за ключом.
В темной ночи у двери человека стоит его убийца. Убийца — это я. Моя жертва сейчас мне отворит эту дверь. Варташевский доверчиво впустит меня к себе… Он ничего не ждет. Он ничего не предчувствует.
— Ну что ж!
В голове мелькает:
— Можно обманывать некоторых все время. Можно обманывать некоторое время всех. Но все время обманывать всех нельзя!
Это меня ободряет моя память. Когда убиваешь, надо оправдываться!
Секунды кажутся вечностью.
Наконец: те же быстрые шаги, два быстрых, энергичных поворота ключа, дверь — настежь.
— Миша, почему так поздно?
Он протягивает мне руку, тянет к себе, целует. Немыми концами замороженных губ я прикасаюсь к его горячему рту.
— Раньше нельзя было.
Обняв, он ведет меня в комнату. На ходу чиркает спичкой.
— Осторожнее, — говорит он. — Здесь порог.
Как смешно! Меня он должен беречь!
В комнате горит лампа. Пахнет керосином. На столе — развернутая книга. Я быстро бросаю взгляд: Шиллер — «Разбойники». Уж не я ли Моор?
— Ну и исхудал же ты, — говорить Константин, пристально вглядываясь в мое лицо.
Он берет лампу, поднимает, освещает меня:
— Да, брат, подгулял…
Мы садимся.
— Говори скорей, в чем дело, — просит Константин, стыдливо опуская глаза, и тихо прибавляет:
— Я — не один.
Конечно, он — не один!.. Она — тут! Тотчас же я улавливаю легкий запах духов и еле слышный шорох за стеной.
Она слушает. И твердо я говорю себе в эту минуту:
— Ничего не услышишь! Нет, mademoiselle Диаман, вы ничего не подслушаете!
— Так в чем же дело?
Я отвожу глаза.
— Да как тебе сказать… Во всяком случае, дело серьезное. Вопрос идет о судьбе организации…
Он незаметно поднимает внимательно глаза, смотрит на меня настороженно, в его взгляде пробуждается любопытство.
Еще бы оно не проснулось у тебя — у тебя, предателя!
Волна тихой злобы охватывает сердце. Я боюсь выдать себя. Покорно ли мое лицо? Верно ли оно передает мою предательскую игру?
— Разве так серьезно? — спрашивает Варташевский.
— Очень.
— Ну?..
— Здесь неудобно говорить. Да и душно у тебя. Я устал. Хочу воздуха. Пройдемся…
Варташевский потягивается и зевает:
— А может быть, лучше завтра?