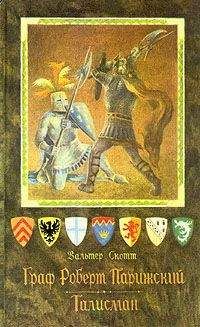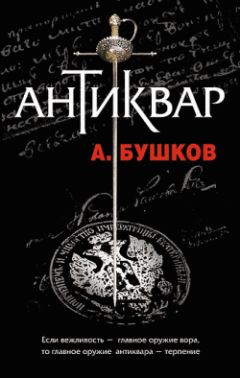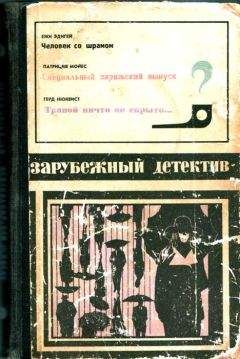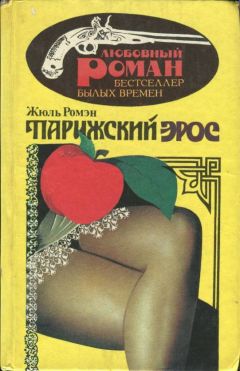Парижский антиквар. Сделаем это по-голландски - Другов Александр
Вечером первого дня мы до полуночи засиживаемся в ресторане отеля. Основная тема застолья — рассказы о своих странах студентам, которые работают в баре и ресторане. Благодарные слушатели то и дело предлагают нам пиво и вино «за счет заведения». Когда мы выходим под необычно ясное звездное небо, Джой уверенно берет меня под руку. Даже обычно невозмутимая китаянка Шам Шан кротко улыбается. Молчит только Лиз: она все дуется за ту шутку, полностью меня игнорирует и Бог весть когда заговорит снова.
Мне остается только подчиниться судьбе и вытерпеть чинный переход до спального корпуса под руку с чужой женой под перекрестными взглядами, к счастью, отчасти скрытыми темнотой.
Войдя ко мне в номер, Джой захлопывает дверь и тесно прижимается ко мне всем телом.
— Мы так давно не были вдвоем, я ужасно соскучилась.
— Я тоже. Но слушай, душа моя, ты не боишься, что…
— Я ничего не боюсь.
И она закрывает мне рот поцелуем, от которого останавливается дыхание и остатки благонравия и благоразумия испаряются.
На утреннем семинаре Лиз предлагает общий поход в любое пристойное питейное заведение, какое только мы сможем найти. Идея получает общее и бурное одобрение, и вечером мы горластой толпой в пятнадцать человек врываемся в ближайший, он же единственный, городской паб.
Уличных фонарей в городке немного, и снаружи здание рассмотреть нам толком не удается. Внутри же высоченные потолки и закопченые своды наводят на мысль толи о замке, толи о ратуше. Ясно одно — это самое высокое и самое посещаемое здание в городке. Наша шумная компания вызывает общий интерес у обстоятельных и солидных посетителей паба, хотя по традиции провинций всех стран мира открыто нас не разглядывают.
Поначалу вечер проходит более или менее пристойно. Даже игры, принятые в нашей группе, не вызывают особого протеста со стороны публики. Самая шумная из них — так называемый «оркестр», которым обычно руководит филиппинец Питер.
В разгар веселья, когда все бурно приветствуют очередного исполнителя, я чувствую, как кожа на затылке у меня немеет. Это запоздалая от алкоголя реакция на чей-то слишком пристальный взгляд. Я поймал его секунду назад, и подсознание пытается дать сигнал тревоги, которому трудно пробиться через гудящие от вина извилины.
В таких случаях самое простое средство — выйти под тем или иным предлогом, что дает прекрасную возможность оглядеть весь в зал по дороге туда и обратно. Однако сейчас у меня нет желания покидать нашу компанию. В нынешнем состоянии я скверный боец, и любой, кто по той или иной причине пожелает дать мне по голове, сможет сделать это с легкостью.
Поэтому забрасываю руки за голову и, откинувшись на стуле, медленно обвожу глазами доступную взору часть зала. Поскольку я сижу лицом к столу, мой взгляд по преимуществу натыкается на пьяные лица участников семинара. То, что я ухитряюсь увидеть в глубине зала, не вызывает особой тревоги. Мужские и женские спины, жуюшие и говорящие лица.
Ерунда, не могут же они следить даже здесь, где каждый человек как на ладони. Да и причины, собственно, нет. Сейчас Ван Айхен наверняка занят другим: пытается разузнать, куда делся Воропаев. Успокоив себя этими доводами, допиваю бокал вина и решаю освежиться. Из-за соседнего стола одновременно со мной поднимаются двое изрядно выпивших немцев. Один из них, высокого роста, качнувшись, подмигивает мне. Улыбаясь в ответ, мы вместе идем к двери. Там разделяемся. Я иду к выходу, а высокий и его толстый приятель в кожаном жилете сворачивают к мужскому туалету.
На улице свежо. Сильный ветер гонит по темному ночному небу высвеченные луной низкие облака и ровно гудит в ветвях деревьев. В окнах маленьких одноэтажных домиков под замшелыми черепичными крышами горят огни, и редко-редко на улице мелькнет прохожий.
Постояв и выкурив сигарету, возвращаюсь к шумному и душноватому застолью, которое сейчас больше похоже на детский утренник. Нетрезвый кореец Чой, стоя на стуле, громко поет революционную песню. Он опасно раскачивается, помогая себе взмахами руки, зрители плачут от смеха. Чой приехал из Сеула. Он принадлежит к какой-то до умопомрачения прогрессивной организации, и его речи и песни носят исключительно радикальный характер. Реформ он не приемлет, ни на что, кроме всемирной революции не соглашается, мировой империализм требует уничтожить без отлагательств.
Я присоединяюсь в общему веселью. В этот момент у входа возникает невнятный шум. Через некоторое время гвалт в зале затихает и все поворачиваются к дверям. Там стоит белый растерянный немец, один из тех, что выходили одновременно со мной из зала. Он что-то громко и невнятно говорит. Я немецкого не знаю совсем, зато его понимают голландцы. Большинство присутствующих устремляются к выходу и замирают, сгрудившись в небольшом холле.
На полу недвижно вытянулся длинный немец, что несколько минут назад подмигивал мне, выходя из зала. Вокруг его головы растекается темно-красная лужа. Судя по длинному кровяному следу, приятель притащил его в холл из туалета. Толстяк в жилете что-то быстро говорит, и Карин переводит нам:
— Они зашли в туалет. Этот вот, толстый, вышел первым и направился в зал. А минут через десять забеспокоился и вернулся. Этот длинный лежал в туалете в пробитой головой.
В разговор вмешивается хозяин заведения. Качая абсолютно лысой головой, он машет рукой в сторону автобусной остановки.
— Он говорит, что последний автобус только что ушел. Он успеет к последнему парому. Паром вмещает около трехсот человек, и звонить на пристань не имеет смысла. Никто ничего не видел, и нападавшего теперь не найти. Неизвестно даже, кого искать.
Подходит официант и сообщает, что минут через десять прибудет скорая помощь. Длинный между тем лежит на полу совершенно белый без движения и звука.
Джой трогает меня за рукав:
— Смотри, Алекс, этот парень очень похож на тебя.
— Да ну, брось. Вечно ты придумываешь.
Говорю это автоматически, ибо на самом деле нас с первого взгляда действительно легко перепутать. Оба длинные, в почти одинаковых си них джинсовых рубашках. Сделав шаг, заглядываю в дверь туалета. Так и есть — лампочка там горит вполнакала. Ошибиться при таком освещении ничего не стоит. Ну вот, отдохнули на курортном острове. Может быть, Эрнесто зарезали и за дело, но вот немец этот точно пострадал вместо меня ни за что ни про что.
Я открываю рот, чтобы успокоить Джой и сказать что она ошибается, но останавливаюсь на полуслове. Джой бьет мелкая дрожь, в широко открытых черных глазах нет никакого выражения, кроме беспредельного ужаса.
— Что с тобой, глупенькая? Успокойся немедленно, здесь наверняка была самая обычная драка. Ко мне это не имеет отношения.
Не добившись никакой реакции, хватаю Джой за руку и тащу на улицу. Всю дорогу до отеля она молчит, механически переставляя ноги. Темные узкие улочки маленького городка пустынны, свет едва пробивается сквозь ставни одноэтажных домиков. Что ее могло так испугать? Всего лишь то, что этот несчастный немец похож на меня?
Но в номере у Джой начинается настоящая истерика. Обхватив худые плечи, она покачивается на кровати и сквозь рыдания повторяет:
— Они и тебя и меня убьют, я знаю. Я только с самого начала это не поняла. Но кто мог…
Наверное, я слишком сильно схватил Джой за руку, потому что она вскрикивает. Но теперь дрожь пробирает уже и меня.
— Что ты знала? И кто это «они»?
Судорожно всхлипывая и вытирая слезы узкими ладонями, Джой говорит:
— Вскоре после того, как мы с тобой встретились на том вечере у художников, ко мне подошел ваш преподаватель, Йост. Поговорил о том, о сем, а потом вдруг заявил, что тобой вплотную интересуется голландская полиция. Подозревают тебя в связях с русской мафией. Еще он сказал, что руководство института в это не верит, но им нужно больше информации о тебе, чтобы разубедить полицию. Ну и…
— Что «ну и»? Ты стала им стуч… прости, докладывать обо всем, что я делал?
Джой кивает, грустно глядя в угол комнаты.