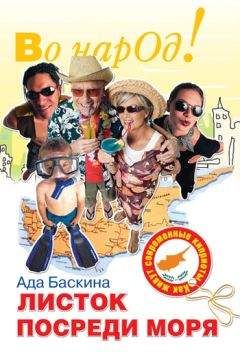Сергей Костин - Смерть белой мыши
Я открыл рот, чтобы предложить сесть за руль, но она сама повернулась ко мне.
— Она следит за мной, — продолжила Анна. Русским она владела совершенно свободно, и даже небольшая певучесть была вне всякого сравнения с ее ужасным акцентом в английском. — И это тоже началось только этим летом. Раньше она была очень приветливой. Мы даже часто болтали, когда сходились у забора. Ну, когда кусты подстригали.
— Марет?
Анна кивнула. Мы снова помолчали.
— Вы уверены по поводу бритвы? — спросил я и добавил в шутку: — Может быть, это она подбривает усы?
— Вам нравится делать из меня идиотку? — вспыхнула Анна. И тут же осеклась и добавила миролюбиво: — Почему вы такой?
— А почему вы такая?
Анна расхохоталась. Удивительное дело, она вдруг стала лет на тридцать моложе. Даже на сорок. Губы изогнулись в насмешливой гримаске, глаза заискрились.
— Я вам скажу. Или не стоит? А! Мне все равно некому больше это сказать. Так вот, в молодости я была очень привлекательной и этим пользовалась. Кстати, пользовалась довольно долго, даже уже когда перестала быть молодой и привлекательной. А теперь мне столько лет, сколько есть, и что мне остается? Я больше всего боюсь превратиться в пресную, маленькую старушонку, серую и сплющенную, как килька. Что в ней осталось от той женщины, которой я была? А так хоть мой характер сохранится — из тех времен, когда я все могла себе позволить. Наверное, для других людей это не самый приятный вариант. Но я же ни с кем и не общаюсь толком. Вот только вам не повезло!
— Я люблю острое. У меня на столе всегда стоит перечница с чили, который я сыплю во все, кроме мороженого и фруктового салата.
Анна посмотрела на меня — машину угрожающе потянуло влево — и покачала головой.
— Так вы и со мной умудряетесь получать удовольствие.
Я схватил руль и выровнял машину, готовую съехать с покрытия.
— Вы так меня видите? Гедонистом?
Анна дернула плечом.
— А вы свой возраст ощущаете?
— Пока жив Том Джонс, я остаюсь молодым.
Анна хмыкнула, усваивая эту незатейливую мысль.
— Жизнь устроена несправедливо, — сказала она, помолчав. — Ну, не то чтобы несправедливо — глупо! Она нас так ничему не учит.
— Да?
— Да. У меня целая теория на этот счет. Жизнь должна протекать в обратном направлении. Надо, чтобы человек рождался стариком — немощным, одиноким — и постепенно молодел. Представьте его радость, когда у него появятся родители. У вас родители живы?
— Мама жива. Отец давно умер, я был еще студентом.
— Тогда вы знаете, каково это, хоронить родителей. Хотя я-то своих, правда, не хоронила — не могла приехать. Все равно, представляете? Вы прошли худшее — болезни, одиночество, у вас прибавляется сил, голова работает все лучше, и тут вдруг появляются ваши родители. Люди, которые любят вас больше всех на свете. При том порядке, который есть сейчас, вы их не ценили по достоинству и поняли, что вы потеряли, только когда их не стало. Но вот их не было, и они появились! И вы можете дать им все, чего не сумели, не успели дать, — у вас на это теперь есть время.
Анна так увлеклась, что машина почти остановилась. Она заметила это и рывком нажала на газ.
— А потом вы влюбляетесь, и это тоже искупление ваших старческих немощей и одиночества. И на этого мужчину — или на эту женщину — вы тоже смотрите другими глазами. Как на чудо! И, зная это, вы дадите ему или ей в сто раз больше своей любви, потому что вы знаете, каково это, когда ее некому дать.
Анна повернула ко мне голову, чтобы убедиться, что я слушаю ее с должным вниманием.
— Это все было бы особенно хорошо для женщины, — убедившись в этом, продолжала она. — Ты много лет была отвратительной старухой, и вот на тебя нисходит благодать. Тело твое наливается соком, морщины разглаживаются, в глазах загорается огонь. Из сухой безжизненной куколки вылетает красавица-бабочка. Вот он, настоящий дар! Не переход от хорошенького ребенка к хорошенькой девушке, для которой ее привлекательность — нечто само собой разумеющееся. А чудесное превращение из старой жабы, от одного вида которой перекашиваются лица, к женщине, на которую оборачивается каждый мужчина. Вся жизнь становится чудом, и вы идете от радости к радости, как живет от радости к радости ребенок в нормальной семье. Вы становитесь этим ребенком все больше и больше. И потом переходите в другой мир без страха, без болей, здоровым, в окружении любящих вас людей — как к новой радости.
Анна снова посмотрела на меня.
— Если бы я была Богом, я бы устроила этот мир так.
Она помолчала.
— Теперь вы должны мне сказать что-нибудь такое же искреннее и глупое. А то я чувствую себя полной дурой.
— Это просто, — засмеялся я. Мне действительно ничего не надо было придумывать. — Мне хотелось бы, раз нельзя сделать это для всех, чтобы любимые актеры не старели. Особенно женщины. Чтобы Кэтрин Хепберн и Клаудии Кардинале всегда было до тридцати. Пусть они потом тоже умрут, раз иначе невозможно, но такими же восхитительными.
Анна кивнула. Моя степень глупости ее устроила.
— На самом деле, — продолжал я, — я уверен, что Всевышнему ничего не стоило все устроить иначе. Знаете, есть такая рыбка, она так меня поразила, что я даже запомнил ее название: Monopterus albus называется. Она рождается самкой, молодость свою проводит самкой, а потом превращается в самца.
Анна отыграла мое замечание жестом: видите, это примерно то, о чем и я говорила. Ну конечно, попримитивнее!
— Однако совершенно очевидно, что у Него относительно нас другой замысел, — заключил я. — Наверное, жизнь — это все-таки урок. Он хочет, чтобы мы что-то поняли.
Анна посмотрела на меня. Она все еще была преображенной, воодушевленной собственными словами, наполненной проснувшейся красотой своей молодости.
— А вы еще и зануда, — вздохнула она.
Сказано это было совершенно не обидно. Так поддразнивают человека, которого знают много лет, и то, что Анна зачислила меня вдруг в эту категорию, вызвало у меня теплую волну в груди. Я как-то никогда не думал о старости как о времени одиночества. У меня были Джессика, Бобби, мама, моя любимая теща Пэгги, наш кокер-спаниель Мистер Куилпс, и мне хотелось бы, чтобы они пережили меня все.
Мы съехали на широкую обочину в месте, где на дорогу выходила просека, и остановились. Я снял комбинезон и пересел на заднее сиденье. За весь обратный путь нам не попалась навстречу ни одна машина, да и обогнали нас только однажды. Так что я лег на сиденье и закрылся пледом, только когда мы снова подъезжали к Вызу.
На этот раз Анна въехала на свой участок. Место для машины было слева от дома, так что он заслонял ее от дачи Марет. Анна открыла дверь дома и, убедившись, что вокруг никого не было, тихонько свистнула мне. Ага, свистнула! Эта с виду холодная, даже слегка чопорная дама не переставала меня удивлять.
Я откинул плед и проскользнул в дом. Игра начиналась.
Часть вторая
1
У Ольги была итальянская кофеварка, готовившая приличный эспрессо, а начатая пачка кофе нашлась в шкафу над раковиной. Ольга, если вы уже забыли, была той замечательной женщиной, которая, правда, не подозревая об этом, дала прибежище на ночь оказавшемуся в опасности посетителю пивного ресторана «Бир-хаус». Ее, вероятно, и разбудил именно запах кофе. Во всяком случае, когда я осторожно просунул голову в дверь спальни, она, заспанная, растрепанная, уже сидела в постели, натянув простыню на голую грудь.
— Доброе утро! Хочешь чашечку? — спросил я.
Она неуверенно кивнула. Неуверенно оттого, что, видимо, только недавно сообразила, что в доме посторонний мужчина. И, может быть, даже вспомнила, как он сюда попал.
— В постель?
Опять неуверенность.
— Нет, я встану.
Ольга вышла на кухню в облегающем кимоно, по-японски минималистском: два маленьких черных иероглифа на белом шелке. Минималистским и по длине: оно едва доходило до середины стройных загорелых бедер. Над лицом Ольги Создатель как-то особенно не потрудился — при том что и на мою трезвую голову она выглядела вполне привлекательно, — зато слепить ее тело доставило ему истинное удовольствие. Вчера я этого как-то не отметил. И ноги — нет, я вчера был не прав, — и ноги у нее были не тонкие. Нормальные ноги!
— Я прошу прощения, что похозяйничал, — сказал я, домывая посуду. — Просто уже десятый час.
— Нет-нет, очень правильно сделали, — сказала Ольга, не помня точно, были ли мы с ней на ты или на вы. Она, широко зевая, усаживалась на высокую табуретку у мини-подобия барной стойки. Зубы у нее были ровными, крепкими и в полном составе.
— Тем более что кофеварка была чистая, — не удержался я.
Что было правдой. Это, в сущности, был единственный чистый предмет кухонного обихода. Раковина до моего вмешательства была завалена грязными чашками, ложками, ножами и высохшими буро-желтыми пакетиками чая. Тарелок в этой груде посуды не было — хозяйка дома явно предпочитала питаться вне родных стен. Важное уточнение: я перемыл посуду не из стремления подольститься к хозяйке дома, чтобы и дальше рассчитывать на ее гостеприимство. Я и дома — мы с Джессикой ведем хозяйство сами — посуду мою охотно, а в гостях посильная помощь и подавно не в тягость.