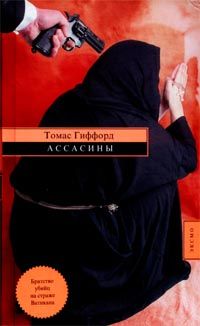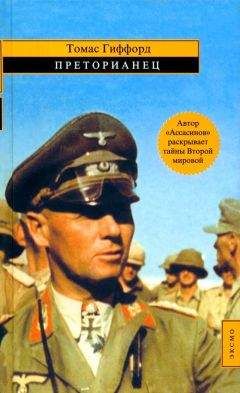Томас Гиффорд - Сокровища Рейха
Это вещи очень тонкие, вы понимаете? Он мог бы называться республиканцем, или демократом, или даже социалистом, а возможно, стал бы основоположником какого-нибудь нового движения. Название никакой роли не играет. Он мог прибегнуть к поддержке евреев, или негров, или пролетариата, или бизнеса. Главное – сохранить генеральную линию. Поверьте мне, латиноамериканский план, который вот-вот вступит в действие, не представляется миру как второе пришествие нацизма. Это относится и к африканскому движению, которое набирает силу. А возьмите контроль над ближневосточной нефтью. Много мы слышим о нацистах? Отнюдь нет. Всем известно, что фашисты давным-давно стерты с лица земли.
Он говорил прикрыв глаза, слегка улыбаясь, поглаживая мурлыкающих кошек.
– Где же теперь мой отец?
– Ваш отец провел некоторое время в Каире, работал с теми, кто уцелел после войны. Потом в Париже, после этого – в Алжире. – Рошлер шмыгнул носом, чихнул, уткнувшись в шерсть кошки, энергично высморкался в скомканный платок. – Эдвард Купер скончался от рака три года назад в Швеции. Его место занял другой. Кто? – Он покачал головой. – Имеет ли это значение? Всегда кто-нибудь да будет…
Я неотрывно глядел в светло-серые глаза Лиз и видел там такие безбрежные дали, в которых мне никогда не доводилось и, надо полагать, никогда не доведется бывать. Где-то там затерялась и боль, пережитая ею. Вероятно, таков был ее способ самозащиты, вернее, способ выживания. Я же целиком сосредоточился на своих страданиях. Поведение Лиз я объяснял тем, что она была неспособна страдать. И только сейчас мне вдруг пришло в голову, что ей нанесен более ощутимый удар, чем мне, и это вернуло меня к действительности. Я стряхнул с плеча руку Питерсона, желавшего меня утешить, и подошел к ней.
– Ли, – сказал я, привлек ее к себе и прошептал: – Не надо плакать. – Я ощутил на своей щеке ее слезы и трепет ресниц. – Не плачь.
Она обхватила меня, все ее тело сотрясалось, она билась о мою грудь. Как бы то ни было, именно я стал невольной причиной ее боли.
– Вы не закончили, доктор, – сказал я. – Вы рассказали мне об отце… но главный вопрос в другом, не так ли? Во всяком случае, не с этого следовало начинать. Что стало с девочкой? Вы остановились на том, как двое таинственных незнакомцев, забрав ее, незаметно скрылись в тумане…
– Не незнакомцы – товарищи по агентуре, сподвижники. Они унесли ее. Это был перст судьбы, что они оказались рядом с домом как раз тогда, когда началась бомбежка, иначе малютка Ли погибла бы вместе с матерью. Потом ее отвезли в Ирландию, где у фашистов было много сочувствующих. Там девочка оставалась два года, воспитывалась в деревне. Она была слишком мала, чтобы помнить тот период своей жизни. Потом ее переправили в Норвегию, в Берген, но уже как ирландку. Оттуда в Австрию, затем в семью фон Шаумберг, где она и получила свою окончательную фамилию – Лиз фон Шаумберг.
Лиз рыдала, опустившись в кресло.
– А где был мой отец? – Это был крик души, полный глубокой горечи.
– Он страшно переживал, моя милочка, – утешительным тоном ответил Рошлер. – Но у него была своя, новая жизнь и еще не выполненный до конца долг перед движением. Он принял окончательное решение в соответствии с уготованной ему судьбой. После смерти жены он счел, что его дети должны иметь возможность жить спокойно, чтобы его тень не витала над ними. А это значило, что он больше не должен видеть ни одного из вас, чтобы перед вами никогда не возникла дилемма – признать его или отвергнуть. – Он помолчал, глянул на меня, потом на Лиз. – Он был исключительно волевым человеком и очень хорошим. Он любил всех вас. И его планы в отношении вас, Джон, и вашего брата Сирила осуществились. Как он и рассчитывал, вы жили собственной жизнью и верили в миф о его патриотизме. – Рошлер по-стариковски тяжело, устало вздохнул; этот бесконечно длинный вечер завершался. – С его маленькой дочерью Ли все получилось далеко не так просто…
Стрелка остановилась на цифре два, и часы мерно пробили время. Питерсон отправился на кухню и принес кружки с кофе. Кошки, когда он проходил мимо них, провожали его взглядом. По окнам стекали капли дождя. Передо мной разворачивалась моя жизнь или, вернее, те события, на фоне которых она протекала…
– Лиз, – обратился к ней Рошлер, – все эти годы то, что я знал о твоей судьбе, не давало мне покоя. Сидя в соборе в день вашего с Гюнтером венчания, я мучительно снова и снова задавал себе вопрос, знаешь ли ты, на что идешь. Позже Гюнтер сказал мне, что ты ни о чем даже не догадывалась.
– Почему ее просто не отправили в Куперс-Фолс к деду, когда война кончилась? – спросил Питерсон, стоя у камина и зажав в массивном кулаке кочергу.
– Сейчас я объясню вам, – ответил Рошлер. – У нас еще достаточно времени до вашего отъезда. Так вот, Эдвард Купер и понятия не имел, какую работу ему придется выполнять в Англии, а тем более, что от него потребуют бежать в Германию и посвятить свою жизнь нацистскому движению…
– Вы говорите о нем так, будто он служитель культа, – заметила Ли.
– Да, именно так. Сравнение вполне подходящее. Если бы ему пришлось вернуться в Соединенные Штаты, возможно, семья сохранилась бы. Но его отозвали в Германию служить рейху. А когда его жена погибла во время бомбежки, немецкие агенты просто не знали, что им делать с девчушкой. В Ирландию они отвезли ее по собственной инициативе, согласитесь, это была далеко не легкая задача для двух шпионов… Лишь спустя какое-то время разведслужбе, которая занималась Эдвардом Купером, стало известно о судьбе его семьи, но у нее не было тогда возможности связаться с Купером и спросить у него, как поступить с девочкой, которая к тому же официально считалась погибшей в Лондоне. Естественно, все, что было предпринято, еще более изолировало девочку от семьи. Когда наконец Купер вновь всплыл на поверхность, завершив одну из своих вылазок на вражескую территорию, ему сообщили о смерти жены и чудесном спасении малышки. Как он воспринял известие о печальной судьбе супруги и счастливом жребии ребенка, не знаю… Знаю одно: он понимал, что не может взять на себя заботу о ней, но она должна нормально расти и воспитываться в той стране, которую он избрал. Таким образом, моя милочка, ты стала Лиз фон Шаумберг, а твой отец, заведомо зная, что больше никогда не встретится с тобой, распорядился, чтобы его постоянно держали в курсе твоей жизни. Он сохранил за собой обязанности отца, но вынужден был отказать себе в родительских радостях.
– Выходит, Гюнтер знал моего отца, – сказала Л из.
– Несомненно. Он встречал его, когда тот перелетел Ла-Манш. Работал с ним.
– Я видела его когда-нибудь?
– Нет, не думаю.
– Отец одобрял мое замужество?
– Он был доволен твоей жизнью. Он уважал твоего супруга.
– О боже, – простонала она, вцепившись пальцами в лицо, закрыв глаза, мотая головой из стороны в сторону, издавая какие-то невнятные звуки вместо слов, содрогаясь от ужаса, горечи, разочарования, несбывшихся надежд, полного одиночества в своей жизни. Питерсон безучастно наблюдал за ней. Наконец ее рыдания стихли. Она сидела, подняв плечи, узкие, хрупкие, точно у подростка, съежившаяся, скорбная, несчастная.
– До прошлой осени, – Рошлер повернулся, чтобы взглянуть на часы, – все шло согласно плану. Вы и Сирил оставались полностью в стороне. Лиз – возможно, несколько неуравновешенная современная женщина, но не более неуравновешенная, чем большинство из них, – была вполне удовлетворена своей жизнью. Политической деятельностью мужа она не интересовалась, а посему не представляла никакой угрозы для нацистского движения. Гюнтер сознавал, что его семейная жизнь далеко не идеальна, однако считал свои отношения с тобой, Лиз, значительными по двум причинам: во-первых, он любил тебя как женщину, а во-вторых, ты представляла собой фигуру в смысле преемственности внутри движения. Неважно, что ты даже не догадывалась о своем происхождении, главное, что он знал это. Ты для него была гораздо больше, чем просто жена. В Южной Америке дела шли отлично. В Африке и на Ближнем Востоке – тоже.
Питерсон прервал его:
– Доктор, позвольте вставить слово.
– Только не тяните, мистер Питерсон. Времени остается в обрез.
– Опять судьба, маленькие жернова судьбы, от которых кости трещат. Хорошо, Гюнтер Брендель едет в Глазго на торговую ярмарку провернуть сделку по продаже в Германии нового сорта виски. Отупеть можно! – Кулак Питерсона с силой врезался в ладонь. – Чертовски здорово! Абсолютно чистая случайность: он и понятия не имеет, что Сирил Купер как-то причастен к этому паскудному зелью, которое Брендель собирается закупить по дешевке! Да и откуда ему знать? Имя Купера нигде не фигурирует. И вот Брендель отправляется в Глазго, и вы думаете, он едет в эту, казалось бы, небольшую обыкновенную деловую поездку один? Как бы не так – он прихватывает с собой несчастную, неуравновешенную молодую жену: у нее, видите ли, депрессия, ей нужна перемена обстановки, в общем, какого черта, махнем в Глазго, удерем хоть на время от всей этой рутины! – Питерсон был весь в поту, на губах играла зловещая, как ночь в джунглях, улыбка. – В самом деле, почему бы и нет, черт побери?! И они уезжают. Теперь следующий роковой поворот судьбы: Джек Дамфриз договаривается с Алистером Кемпбеллом, дошлым, вечно пьяным мелким газетчиком, сделать снимок своего знатного немецкого гостя. Весьма удачный шаг мистера Дамфриза – отличная реклама для сивухи с запахом грязных теннисных носков плюс еще одна удачная сделка, есть чем похвастаться перед хозяином, а также немного пощекотать самолюбие приезжего немца. Прелестно. А фрау Брендель – ну чем не кинозвезда, красавица, тиснем и ее в газету!