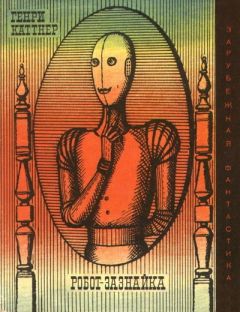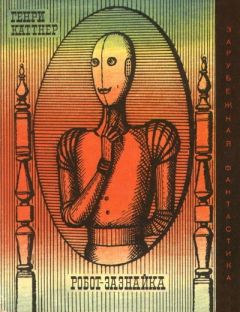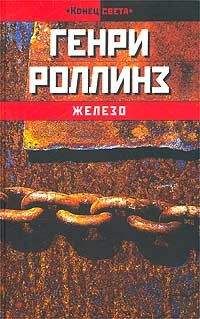Валериан Скворцов - Срочно, секретно...
— В Клонг-Той.
— Клонг-Той? Хо-хо-хо...
Закурил, не предлагая Палавеку. Одновременно надкусил шоколадную жвачку. Палавек двинулся к выходу.
— Эй, послушай! — крикнул ему в спину вице-президент. — Ты можешь сказать брату, что участникам выступления дарована амнистия... Тебе тоже!
В отделении Тайского военного банка Палавек предъявил заветный чек. Уколы и переливания в больнице, даже заштатной в трущобах Клонг-Той, обходились недешево.
Веселье в городе, получившем «долгожданное демократическое правительство», набирало силу. Как бывшего «желтого тигра», знавшего английский, Палавека переманили вышибалой в бар «Сверхзвезды» в квартале Патпонг, «самом брызжущем весельем, очарованием и гостеприимством квартале Бангкока», как писала в бульварном издании «Куда пойти?» журналистка, ставшая его подружкой. Вскоре она перетащила Палавека на должность швейцара в «Королеву Миссисипи». А потом, вложив кое-что в бизнес с запрещенным собачьим мясом, за которым гонялись эмигранты из Вьетнама, он и сам купил место официанта в «Розовой пантере».
— Есть люди, которые выпустят горожанам их вонючие кишки. Если не у нас, так поблизости, — злословил швейцар из бара «Сахарная хибарка».
Они вместе иной раз тащились с работы на рассвете, серые и потускневшие, как улицы в этот промежуток между мраком и днем. Сестра швейцара работала в массажной «Ля шери», зарабатывала прилично и называла брата «красным». Планировала, поднакопив, податься на юго-восток, где бы никто не знал ее прошлого, выйти замуж и прикупить земли. Швейцар тоже хотел бы, но едва сводил концы с концами. Поэтому и ненавидел город, что лишился земли.
Палавек ненавидел Бангкок иначе. Провожая клиентов с фонариком через затемненный зал к столику, ловил себя на мысли, что, если кого и считать «красным», так уж скорее его...
3
Теперь на сампане «Морской цыган» он возвращался в Бангкок.
Солнце тронуло море. Световая дорожка, по которой уходил от заката «Морской цыган», сужалась на глазах. А когда фиолетовые облака упрятали светило, она расплылась золотистым эллипсом.
— Ночь будет беззвездной, — сказал Нюан Палавеку. — Благоприятно для высадки.
— Да...
Старик тронул свой амулет — клык тигра с фигуркой Будды.
Палавек припоминал очертания прибрежных островов, которые не раз зеленой сыпью мерцали перед ним на экране локатора. Его вторая родина — пятна белого песка, мангровых зарослей и согбенных под ветрами пальм с растрепанными челками. Прокаленные солнцем, умытые туманами, исхлестанные бурями, овеянные легендами куски суши. Никогда не был он и, наверное, никогда не будет так счастлив, как последние четыре года, полные погонь, риска и высокой справедливости. Лучшая пора в жизни, видимо, оборвалась в ловушке, расставленной Майклом Цзо.
...Сестра швейцара из «Сахарной хибарки» написала летом 1978 года из местечка Борай близ юго-восточной границы, где открыла «Шахтерский клуб»: не томись в Бангкоке, выезжай — дел много, людей, достойных доверия, мало, будешь если не мужем, то компаньоном. Ее брат прокомментировал нацарапанное посланьице в том смысле, что вот-де землей не обзаведешься и за деньги, которые увезла сестрица. Хрупкая птичка, предававшаяся мечтам о замужестве и детях, судя по названию заведения, занялась спекуляцией камнями.
Борай считался центром сапфировой и рубиновой торговли. Камень, приобретенный там в 1977 году за тридцать шесть тысяч долларов у одного старателя, в Бангкоке оценили в пятьсот двадцать тысяч. Десять тысяч оборванцев возились в красно-серой грязи заболоченной долины, окружавшей городок, в надежде на подобный шанс.
Один из этих десяти тысяч — огромный кхмер с лотосом, вытатуированным на груди, без трех пальцев на правой руке — занял в «Шахтерском клубе» место, обещанное Палавеку.
Борай составляли пять или шесть сотен хижин, сколоченных из досок и крытых шифером. Над убогим поселением поднимался лес телевизионных антенн. На краю этой мешанины и кособочился сарай под названием «Шахтерский клуб»: бильярд, подвешенные кии, купюры на мокрой стойке, вереница цветастых склянок, десять или пятнадцать пар глаз, ощупавших новенького, едва за Палавеком сошлись на пружинах двери.
По утрам на вытоптанную, со следами моторного масла и забросанную окурками площадку съезжались мотоциклисты. На жестяных лотках они выставляли добытые камни. Под оранжевыми, зелеными футболками навыпуск выпирало оружие, заткнутое за брючные ремни.
Бывшая массажистка наслаждалась известностью. Редкий мотоциклист не кивал ей.
— Газеты писали, — говорила она Палавеку, стреляя глазами по лоткам, — о новом пути для женщины в нашей стране. Студенток теперь больше, чем студентов. Директор самого крупного в Бангкоке универмага — женщина...
— Прикрой бар, открой лучше магазин, — посоветовал Палавек.
— Торговля недостойна тайца. Она является уделом китайцев или баб. Долг мужчины состоит в правительственной службе или религиозных отправлениях, — передразнила сестра швейцара борайского майора полиции, на которого накатывали озарения пророка. Он обращался в мегафон к стихийному рынку с увещеваниями назвать грабителя или зачинщика драк, ежедневно случавшихся в округе. Майор гонял по колдобинам Борая на белом «мерседесе», преподнесенном ему в дар спекулянтами.
Вход в «Шахтерский клуб» задвигался после полуночи стальной решеткой. Хозяйка не желала, чтобы в баре сводились счеты, поскольку, как она приговаривала, закон в городке отправлялся на ночлег с сумерками.
Сидели втроем, смотрели телевизор, чаще — бокс, или играли в покер, прислушиваясь к одиночным выстрелам у кампучийской границы. Кхмер пересказывал сплетни о найденных рубинах, принесших состояние. Иногда передавал рассказ о том, как очередной горемычный старатель, перейдя границу, чтобы копать в Слоновых горах, начинавшихся на кампучийской территории, подрывался на мине. Палавек усмехался. Жадность претила. А бывшую массажистку и ее сожителя только деньги и интересовали.
— Вместе с отработанной породой здесь закапывают и всех нас, — сказал однажды Палавек.
— Твоим настроениям место там... — ответил, посерьезнев, кхмер, махнув беспалой ладонью в сторону восхода, где находилась граница. Та самая, что с недавних пор манила Палавека...
Они являлись впятером — мускулистые, подтянутые, с коричневыми, загрубевшими в джунглях лицами. В манере поведения старшего, не снимавшего зеркальных очков, сквозила уверенность, будто был он известным боксером. Махровая панамка, серая сорочка, заправленная в джинсы, размашистый шаг в армейских ботинках, неподдельное — Палавек научился различать это в армии — равнодушие к опасности, безразличие к людям с их камнями выделяли его в толпе. Четыре телохранителя не считались в Борае сильным отрядом. Случалось, одного богатого перекупщика сопровождала команда на четырех лимузинах.
Но с появлением этой пятерки демонстративное спокойствие двух-трех сотен людей, топтавшихся на рынке, спокойствие, прикрывавшее обостренную готовность ринуться на добычу, делалось еще более показным. Атмосфера толкучки пропитывалась страхом. Пологие холмы, щетинившиеся жалким кустарником, будто придвигались ближе.
— Красные кхмеры, полпотовцы, — сказал ювелир, которому Палавек в тот день, когда пятеро опять появились, сдавал рубины, вырученные в «Шахтерском клубе».
Человек в серой сорочке прямиком направлялся в их сторону. Лавочник сглотнул сухим горлом. Помощник, тощий китаец с отечными веками, онемел, держа руки на коробочке с гирьками.
— Меня помнишь? — спросил человек в серой сорочке по-кхмерски.
Челка клеилась к сморщенному лбу перекупщика. Массивные часы, свисавшие с запястья, чуть дрожали.
Полпотовец достал-из бумажника слоновой кожи крупный рубин.
Что-то толкнуло Палавека вперед. Почти черный лицом, кудрявый боец, державшийся слева от человека в серой сорочке, выбросил жесткую ладонь. Палавек перехватил удар, и сразу в его грудь уперлись два кольта.
— Я не знаю его! — едва выговорил ювелир.
— Кто ты? — спросил человек в серой сорочке.
— Меня зовут Палавек. Примите к себе...
— Если ты шпион, революционные массы растерзают тебя. Хотя среди этой грязи твой порыв понятен.
И перекупщику:
— За камень, который найден в Пэйлине трудящимися, ты выдашь двести пятьдесят тысяч бат. Передашь эту сумму отделению банка, знаешь какого... Консервы, два ящика патронов, часы, приемники, авторучки мы заберем на обычном месте...
На крестце пересекающихся дамб, вспугнув мелких пташек с кучи буйволиного навоза, все пятеро переоделись в зеленые рубахи, пузырившиеся под ветром, и мешковатые брюки. Легкие кепки, какие Палавек видел у «красных» еще в Лаосе, обтянули выстриженные головы. Шестой, карауливший снаряжение, равнодушно скользнул по нему взглядом.