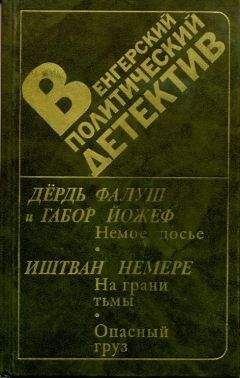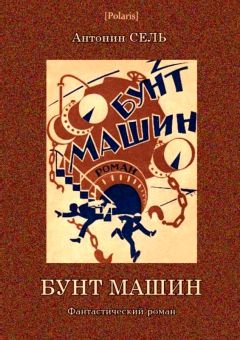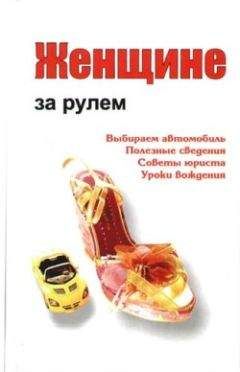Арина Коневская - Под псевдонимом «Мимоза»
— Ты здесь?! Какими судьбами, Машер?!
— Я — с друзьями.
— С какими, если не секрет?
— Ты все равно не знаешь их, Леня! А ты-то сам как здесь очутился, а?
— Я же — за Конституцию, обижаешь, Машер! Решил до конца остаться и на все собственными глазами взглянуть. Но видно, судьба у меня такая — не в тот час родился, не в том месте очутился… Гм… да все мы здесь такие, смертники — нас всех все равно расстреляют! Будем вместе теперь, Машер, до конца?
— Прости, Лень, не могу… Алю убили, — и Мими глухо зарыдала, вскочив с кресла и удаляясь от Метельского в сторону иностранной группы.
— Вот изверги! — ужаснулся он, но преследовать Машу не решился….
Наконец в Зале появился бледный спикер — пришел проститься со всеми и просил прощения за все, что случилось… Пока шла проверка списка оставшихся, депутаты аплодировали друг другу. Мимоза, словно очнувшись от страшного сна, с удивлением смотрела на их лица, ставшие ей родными. Она готова была обнять их, навсегда остаться рядом с ними. Вместе с ними принять смерть. Да, спокойно и даже радостно…
Но они уходили, покидая Парламентский дворец… Потом — снова тишина внутри, а снаружи полыхал огонь, не переставая ни на минуту. Когда она уходила с последней группой журналистов, все окружающее казалось ей затянутым пеленой тумана. Запомнились лишь зеленоватые сферические шлемы бойцов «Альфы», выстроившихся вдоль парадной лестницы. Они выглядели как пришельцы из Космоса…
Очутившись на площади, Маша оглянулась назад и на миг остолбенела: что-то запредельное померещилось ей в огромных крыльях огня, вздымавшихся изнутри окон верхних этажей. И представшая перед ее глазами картина осталась незабываемой в памяти миллионов, навсегда став символом великой народной трагедии: Дом Советов утопал в зловещих, розовато-алых лучах заходящего солнца…
* * *Рядом с Машей шла молоденькая журналистка Ольга. У Дома кино на Васильевской они, прощаясь друг с другом, не могли даже заплакать — от будущих известий веяло глухим ужасом.
«Их уже расстреляли, наверное, а может, кто-то все-таки в живых остался?» — думала она о Трофиме и Савве Сатинове, бредя как сомнамбула по улицам. А в этот момент Золотов вместе с офицерами Добровольческого полка еще продолжал обороняться на 6-м этаже. Электричества не было, сверху неистовствовал огонь. И они пытались открыть пожарные гидранты, когда вдруг из темноты возникли несколько силуэтов: шлемы, как у космонавтов, а вдоль автоматов — лучи прицелов, словно лазеры.
«Альфовцы», — мелькнуло в разгоряченном мозгу Трофима, уловившего резкий окрик:
— Не стрелять! Мы пришли для переговоров!
Предложив добровольцам поехать с ними в Лефортово, офицеры «Альфы» вежливо провели их сквозь первый этаж к выходу и неожиданно сами стали заскакивать в автобусы. А Трофим мысленно прощался с близкими, безо всяконо страха сознавая неминуемый скорый конец. Но тут случилось чудо: со своими ребятами он успел выскочить на набережную. Затем они всем скопом повернули в сторону мэрии и наткнулись на оцепление омона. И в эту минуту произошло вообще нечто странное: омоновцы почему-то не просекли, кто перед ними, и даже не подумали их задержать! Так группа Золотова чудесным образом вышла из осады без единого выстрела, сохранив при себе знамя Добровольческого полка и офицерскую честь, и растворилась в вечернем лабиринте московских переулков…
После полуночи на Старосадском раздался звонок:
— Алевтина? Жива?!
— Это вы, Савва Константинович? Я подруга Али, приходите, вы адрес знаете, — прошептала Маша, пытаясь сдержать слезы.
— А где она-то сама, может, ранена?
— Приходите, здесь вас никто не найдет, по телефону не могу больше, понимаете?
Через полчаса на пороге стоял кто-то — вроде и не Сатинов, а лишь отдаленно похожий на него, какой-то истерзанный и помятый пожилой человек с потухшим взором. Заметив замешательство Ивлевой, он тихо произнес:
— Я… Простите, где Алевтина?
— Ее убили у самого подъезда, на площади…
Сатинов, зашатавшись, медленно вошел в комнату и застонав, рухнул в отчаянье на диван… Прошло немало времени, когда он снова обрел дар речи. И Маша поведала ему о последних минутах Али…
— Она была такой беззаветно смелой, хотела спасти знакомого художника. А ведь этого Мефодия она всего один раз в жизни-то и видела. Но для Али не было чужой беды — сразу кидалась на помощь!.. А я… я не успела, — и Маша, зарыдав, продолжала, — не смогла ее остановить: она вырвалась наружу так стремительно. А я… нет, как мне жить после этого?! Ведь я виновата, бежала за ней, но удержать не успела…Надо было изо всей силы кричать, хватать ее — ведь оттуда пальба разносилась немыслимая!
— Но вы, Мария, и не могли такого представить, — тихо проговорил Савва, внимательно взглянув на нее.
— Вообще-то могла. Ведь она еще на первомайской демонстрации бросилась защищать мальчика от озверевшего омоновца. Но тогда я успела затолкнуть ее в метро, еще и поругала за этакое безрассудство, к благоразумию призывала! Но это понятие — не для Али. Ведь она каждого, кто за народ борется, считала своим братом по духу!
— Да я это видел, особенно в последний день. Да знал бы, что это последний! — то взял бы ее с собой — она ведь требовала, чтоб со мной в Останкино поехать, кричала. Но я не мог того допустить — там ведь всех подряд… ну вы знаете…
— А как вам-то удалось оттуда выбраться
— Очень странно, едва я к выходу подошел, когда депутатов выводили вслед за Хасбулатовым, остекленевшим каким-то. Тут и подскочил ко мне эдакий «терминатор сферический»: пойдемте, говорит, со мной, вам в автобус с ними не надо! Я вас провожу! — И представьте себе, так плавно-плавно меня из окружения на свободу вывел. Ну я и бросился бежать как ошпаренный. Слышал — со дворов шла пальба, неслись жуткие крики — там наших в упор расстреливали! — Зачем теперь жить, не знаю! Аля, Аленька!!! Где она сейчас? Я должен ее видеть! Вы проводите меня к ней?
— Я сама не знаю, где она. У меня одна только надежда, что Золотов жив. Тогда обязательно найдем ее, Савва Константинович!
Сатинов опять замолчал надолго, хлебнув предложенный Машей коньяк. Потом вдруг сказал:
— А знаете, где страшней всего было? В Останкино. Там детей расстреливали, подростков… И это я виноват, я! Но ведь никто из нас там о нападении на телецентр не помышлял — в основном же туда народ безоружный подъехал, мы только скандировали: «Эфир народу!». Но меня почему-то никакая пуля не взяла! Лучше б убили, и поделом бы мне было! А сколько я «усатого» убеждал, ведь безумие это — с безоружными ребятами окружать Останкино, да и Макашов возражал ему тоже…Но вот я же сам призвал туда людей, а сколько убитых — там никого не щадили… и ведь из-за меня! Как жить-то дальше? У меня теперь права на жизнь нет…
— Вы же приказ выполняли, Савва, не терзайте себя так! Я тоже так в первые часы после алиной гибели думала, что права не имею! За что меня Господь, меня — такую «благоразумную эгоистку» в живых оставил, а не Аленьку — она-то не раздумывая ринулась в огонь?! Вот мне, дряни такой, и в голову не пришло в тот миг под пули лезть, а она — не могла иначе! Видите, как Бог рассудил. Хм… — и Мимоза на минуту замолчала, скорчившись от разрывавшей ее душевной боли, от ощущения собственной мерзости и острого чувства своей неизбывной вины. Потом вдруг с железной твердостью сказала:
— Вы, Савва, должны этот удар выдержать! Вы обязаны встать с колен, потому что вы — русский. Вы что же, забыли, что русские — не сдаются?! И если Господь вас в живых оставил, значит, — так надо!
— Красиво сказано, но это ведь не просто поражение! Это — катастрофа! Мы должны были предотвратить ее любой ценой!
— Но разве вы знали, что такое случится? Кто мог представить такое зверство?!
— Увы, меня об этом предупреждали! Депутат наш один — он приятель генпрокурора нашего, Степанкова, его слова еще во вторник мне передал: мол, в здании Верховного Совета прольется кровь — так решено! И если б даже Ельцин захотел это предотвратить — то не смог бы! Он ведь тоже — марионетка, как и все мы здесь… да-да, именно так генеральный прокурор и сказал!
— Страшно в это поверить, но кто-то ведь возжаждал русской крови?! За всем этим — что-то сатанинское стоит! Гм… а народ до последнего мига надежды не терял. День и ночь, и в снег и в дождь у костров добровольцы стояли насмерть — разве это не святые люди?! Там наш с Алей художник знакомый, Мефодий-то и был, — у баррикады вместе с приднестровцами. Они же, те самые ребята — настоящие герои, — там и жизнь свою положили «за други своя»!
— Но почему Аля? За что-о?! Где же справедливость Божия, а? Или сверхземной какой-то смысл в гибели Аленьки есть?! — не унимался Сатинов.
— Она ушла в Небесный Иерусалим, она — у Бога, в вечности. И те мальчики, кто как она, не щадил себя, тоже— они самые лучшие, благороднейшие… А почему именно ее Господь призвал — это ведь тайна, о том один только Бог и ведает! А нам, смертным, таким вопросом можно ли задаваться-то, гм… это было бы даже дерзко…