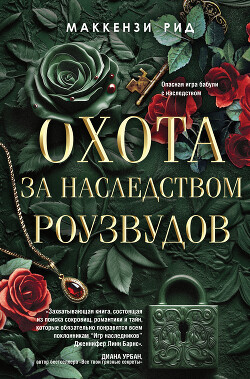Современный зарубежный детектив-4. Компиляция. Книги 1-23 (СИ) - Барнс Дженнифер Линн
Я пытаюсь взять себя в руки. Что это говорит о Шарпе? Спрятать фотографию в пикапе, где потеет и дышит твоя кожа, – похоже, это мужская версия портрета в медальоне. Только хуже, потому что девушки больше нет на свете. Этот мужчина не может перестать любить то, что ушло. Или то, что заставляет его чувствовать вину. Или то, чем он одержим. Или все вместе.
Остальные предметы внутри пикапа внезапно кажутся мне такими же практичными, как и зловещими. Кабельные стяжки. Бумажная карта, позволяющая отключить GPS. Молоток. Латексные перчатки. Лассо, которое легко набросить на шею.
Я уверена, что браслет на запястье девушки – тот самый, что лежал среди листьев на снимке в полицейском участке. Шарп смешал его с фотографиями, не имеющими с ним ничего общего. Зачем? Почему он прячет ее лицо в своем пикапе и выставляет на всеобщее обозрение фотографию с места преступления? Почему он говорит со мной о Лиззи Соломон, но ни разу не обмолвился о девушке, которая окутывает его, словно железный саван?
На браслете среди листьев было всего несколько шармов. На браслете с фотографии на нем нет пустот, этот браслет – свидетельство ее молодой, насыщенной событиями жизни. Звон, который каждый раз возвещал о ее приходе.
Я пытаюсь вспомнить ту старую фотографию. Черные ягоды. Мертвые листья. Серебряный единорог. Бабочка. Сердечко с буквой «Э».
Мне хочется сравнить браслеты под лупой. Я чувствую острую потребность обвести пальцем очертания этих хрупких листьев, как будто они расскажут мне ее историю.
Мое тело по-прежнему вмерзло в сиденье. Водительское. Шевелись.
Пальцы плохо слушаются, когда я пытаюсь подсунуть фотокарточку под козырек. Сую туда же квитанции, поднимаю козырек и вываливаюсь в дверцу.
Я стою, прижимаясь к черной, сваренной на заказ радиаторной решетке спереди пикапа. У меня не было времени переползти на пассажирское сиденье, притворившись, будто я все это время не двигалась с места. Я тяжело дышу, не от напряжения – скорее от страха, что он догадается.
Сетка, горячая от солнца и работающего двигателя, прожигает платье. Шарп не стал выключать мотор, чтобы я не задыхалась от жары. Такие, как он, всегда готовы помочь мамочке посадить малыша в автокресло, не правда ли?
Я закрываю глаза и вижу свою маму.
Наручники воспоминаний.
Так называла она браслеты с шармами, когда мы с Бридж выпрашивали себе такие на Рождество. И мотала головой. Стекло, а не подвески выпадало из бархатных мешочков нам на ладони.
Прошлое придавливает нас к земле.
Я слышу, как за моей спиной Шарп открывает дверцу пикапа. Не думаю, что он видит меня перед капотом. Выходя, он выключил передние фары.
Он чем-то занят. Может быть, заметил, что я смешала его квитанции, или почувствовал мой запах на своем кожаном кресле.
Может быть, решил, что я сбежала. Или считает, что я вижу его насквозь, хотя, по правде сказать, его разум для меня – словно непробиваемая скала.
Шарп мог бы притвориться, будто не заметил меня за своим чудовищным капотом. Надавить на газ. Ясновидящая, не увидевшая собственного конца. Так отшутился бы Бубба Ганз.
На ватных ногах я добираюсь до пассажирской дверцы. Рывком открываю ее. Шарпа нет на водительском месте. Он копается с холодильником у задней дверцы со своей стороны.
– Что ты там возишься? – раздраженно спрашивает он.
– А ты? – задаю я бессмысленный вопрос. – Хотела подышать свежим воздухом.
– Свежим, как же, всего каких-то девяносто пять градусов [559], – бурчит он.
И тон, и слова обычные для Шарпа.
Он с грохотом засыпает лед в холодильник и начинает методично выкапывать во льду лунки для бутылок. Одна. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Он зарывает бутылки в лед, пока на поверхности не остается плоская металлическая крышка, словно чья-то макушка, которая вот-вот исчезнет под водой. Его протянутая рука. Волосы плавают в воде, словно змеи.
Так это была я? Это меня он топит?
Звяк, звяк, звяк доносится с заднего сиденья. Лед бьется о стекло.
Звук переходит в грохот бубна.
Того бубна, который бил, когда милая девушка ворвалась в мой дом и принялась трясти у меня под носом своим браслетом.
Того, который звенел, когда мама, пытаясь заглушить голоса, размешивала лед в железной кофейной кружке, наполненной виски.
Того, что напоминает лязг наручников Никки Соломон.
– Так ты садишься? – спрашивает Шарп.
Шарп опускает козырек ровно настолько, чтобы всунуть чек, и у меня перехватывает дыхание.
Я понятия не имею, тот ли это, что завалился под сиденье, или новый, только что из супермаркета.
Он не говорит ни слова. Я чувствую, как влипаю в сиденье, когда он вдавливает в пол педаль газа. Уж не для меня ли он засунул эту фотографию под козырек?
Когда десять минут спустя Шарп подруливает к дому моей матери, до меня доходит, что мне не пришлось показывать дорогу. Он выбрал самый короткий маршрут. Знал дорогу так, словно отслеживал по карте мои передвижения. Водил по мне пальцем, как по изрытой колдобинами колее.
Я иду к дому, такому же темному и неприветливому, как всегда. Его срок годности истек, как у подгнившего фрукта. И он даже пахнет так же, когда я выхожу из пикапа и получаю удар под дых от мусорных контейнеров, ждущих у обочины. В жаркую летнюю ночь все становится компостом. Банановая кожура, использованные презервативы, мясо с гнильцой.
– Я тут прогуляюсь, – Шарп паркует пикап. – Осмотрю двор по-быстрому.
– Хочешь сказать, в засаде может сидеть еще одна истеричка?
– Почему нет?
– Этот дом зарегистрирован на имя, полученное мамой при рождении. И оно не начинается на Астерия и не заканчивается на Буше. – Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. – Думаю, им будет непросто меня найти.
Не знаю, зачем я это сказала, ведь это неправда. В этом доме я жила с десяти до восемнадцати, и это первый адрес, который всплывет, если кто-нибудь попробует поискать меня по имени и фамилии. Несколько кликов и десять долларов.
Единственное место, где я чувствую себя в безопасности, – это пустыня, где водятся свинки-пекари и змеи.
Пока Шарп обходит двор с фонариком, я включаю в доме весь свет. Проверяю шкафы, заглядываю под кровати. Но, даже покончив с этим, не чувствую уверенности.
Я открываю дверь как раз в ту секунду, когда ботинок Шарпа опускается на верхнюю ступень крыльца.
– Ты в курсе, что у тебя на заднем дворе стоит палатка? – спрашивает он.
– Да. Это для соседской девочки.
Эмм. Она часто убегала к фонарю перед нашим домом. И стояла там с крошечным чемоданчиком, в котором лежала кукла. Никакой одежки, только голенькая Долли. Мама поговорила с матерью Эмм, прежде чем поставить маленькую палатку на заднем дворе, где девочка могла бы уединиться.
Туда мама носила ей банановый хлеб с маслом, которое таяло и впитывалось в его поры. Рассказывала легенды о звездах.
Утверждала, что аутизм – это дар. Что Эмм видит то, чего другие не видят.
– Эмм с мамой… стали… лучшими друзьями, – бормочу я. – На похоронах Эмм спела песню, которую для нее написала. Прекрасные вышли стихи.
Теперь Андромеда держит тебя на руках.
– Скажи Эмм, пусть держится подальше от твоего двора, пока история с Буббой Ганзом не рассосется. Может быть, я сам заскочу переговорить с ее матерью. Не могу гарантировать, что его подписчики не прицепятся к ребенку, особенно если по ошибке решат, что это твоя.
Шарп уже спустился с крыльца и открывает дверцу. Готов выдернуть бутылку из ящика со льдом, и день прожит.
Я перепрыгиваю через четыре ступеньки, чтобы его догнать.
Мотор издает низкий рокот, когда я начинаю молотить кулаком в пассажирское окно.
Стекло опускается, синий свет приборной панели падает Шарпу на лицо. Я не понимаю, зачем я это делаю, просто должна.