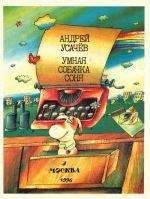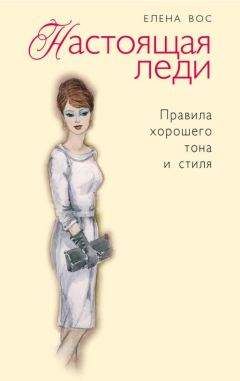Фредерик Дар - Стандинг, или Правила хорошего тона в изложении главного инспектора полиции Александра-Бенуа Берюрье (Курс лекций).
Старушка на глазах лишается чувств. Я сам напросился на то, чтобы по мне устроили панихиду. Теперь эти серафисты повесят мне на шею дело. Припишут, что я навел на них порчу. Мое будущее становится туманным, дорогие мои. Надо быстро включать противотуманные фары, чтобы его рассмотреть.
Она уже приготовилась лишить свежести мою физиономию при помощи своего зонтика, но ее фрукт удерживает ее.
— Месье, — обращается он ко мне, — вы вовлекли этого несчастного мальчика, я ничуть в этом не сомневаюсь, в самое гнусное распутство! В какое же гибельное место вы его завели, этого почти отца?
— Да никуда мы его не заводили! — ору я с такой силой, что одно стекло в раме лопается. — Мы выпили по стаканчику. Немножко поговорили и отпустили его, вашего ученика-капуцина.
— Рассказывайте сказки, месье! Он не пришел домой!
Мой гнев застревает в миндалинах.
— К-как-к, не пришел? — бормочу я.
Старая поднимает над собой знамя восстания.
— А так, что он не спал дома! И это через несколько месяцев после женитьбы! Хорошенькое дело! Просто здорово! Нравы, как в Париже!
На этот раз у меня пропадает желание подливать масло в огонь, наоборот.
— Я умоляю вас, мадам, давайте поговорим спокойно, — щебечу я, как воробушек. — Здесь какое-то недоразумение. После того как Матиас ушел от вас, он был с нами всего полчаса, и то метрах в двухстах от вашего дома.
Бедняжки переглядываются. Мой тон был таким искренним, что они вдруг сразу успокоились.
— Боже милосердный, — бормочет папа, — что же это такое!
— Какой же вывод? — спрашивает прирученная наконец-то мегера.
— Он что, до сих пор никак не дал знать о себе? — спрашиваю я.
— Никак, ни звонка, ни записки, — отвечает Клистир.
Тревога усилилась еще больше после того, как наш директор заявил, что Матиас сегодня утром не пришел на лекцию по пулевым отверстиям. Тайна с анонимной подписью, правда, любезные друзья мои? Ваш горячо любимый Сан-Антонио мысленно возвращается к тому памятному небезызвестному телефонному звонку, который так волновал Матиаса. В его перегруженном мозгу проносятся ужасные мысли, окрашенные в траурные цвета.
Берю делает мне знак отойти в сторонку.
— Что ты расстраиваешься из-за этого, — говорит он мне. — Мы же ему целый вечер в голову вдалбливали, что он живет среди придурков. Вот он и ушел по-английски. С мужчинами это часто бывает, такая необходимость. Особенно с тихими. Они начинают паниковать и идут напролом!
Я качаю головой, чтобы избежать соблазна потрясти ею.
— Это совсем не похоже на нашего друга Матиаса, Толстый. А потом, не забывай одну вещь: вот уже несколько дней кто-то угрожает его жизни. По этой причине я и нахожусь здесь!
Он шмыгает носом и смотрит на меня своими добрыми встревоженными глазами. Он забыл свои фундаментальные принципы хорошего тона.
Он снова становится самой обыкновенной сыскной ищейкой.
Готовый лаять по-собачьи, как говорят у нас в деревне!
— Мы его оставили здесь! — говорю я, топнув ногой по асфальту.
Я смотрю в том направлении, куда вчера ушел Рыжий. Из ворот дома, где живут отвратительные родичи его жены, пахнет камамбером. Запах ощущается даже на углу следующей улицы. Подняв голову, я смотрю на их окна, скрывающие какую-то тайну за флорентийскими шторами, которые придают Лиону вид, отличающий его от любого другого города.
Я вновь вспоминаю прошлую ночь. Я вижу огненную шевелюру Ван Гога, бредущего по улице при лунном свете. Берю тоже вспоминает. Когда на его лбу собирается столько же морщин, сколько на заду сидящего слона, это означает, что он ударился в ностальгические воспоминания.
— Надо было проводить его до двери, — прискорбным голосом произносит он.
В его голосе звучит и сожаление, и упрек одновременно.
— Да ему оставалось пройти всего несколько шагов, парень, — робко защищаюсь я. — Кто знал, что с ним что-нибудь приключится на таком коротеньком отрезке.
— Надо было хотя бы посмотреть, что он дошел до дома, — продолжает причитать Распухший.
Я начинаю нервничать:
— Кончай, сарделька, мы не в Тель-Авиве! У стены стенаний стенать запрещается!
И обозленный, направляюсь к дому Клистиров. В этот пасмурный полдень на улице пустынно, как и прошлой ночью.
— Кто-то следил за домом Матиаса, пока мы там были, — подумал я с редкой проницательностью, которая, как вы знаете, свойственна только мне. —Этот кто-то видел, как мы вышли из дома с Ржавым. Он пошел за нами. А потом, когда мы расстались с Матиасом, напал на него. Но сделать это он мог только внутри дома, иначе мы бы что-нибудь услышали.
Я захожу в подъезд. Пахнет кислыми щами и кошачьей мочой. Пожелтевшее объявление доводит до сведения гостей, что жилище консьержки находится в глубине двора. Я прохожу через мрачный квадратный двор; здесь растут несколько зеленых растений, которые от недостатка влаги так и не смогли приобрести вид настоящих деревьев. Берю идет за мной.
Черные безмолвные фасады домов отвесно устремляются в прокопченное небо, которое воспевал когда-то знаменитый Беро.
В глубине двора стоит строение с крышей из цинкового железа, напоминающее пристройку. Дверь клетушки консьержки застеклена. Я заглядываю в комнату, но там темно, как у негра в заднице, который роет туннель в полночь в безлунную ночь. Мне ничего не остается, как постучать в дверь. С той стороны к стеклу прилипает мертвенно бледное лицо, как квитанция о штрафе под дворником ветрового стекла машины водителя, нарушившего правила. Лицо совы или ее двоюродной сестры. На лице выделяются два черных глаза. Взгляд острый, как шпилька женского туфля. Только я собираюсь с силами, чтобы изобразить для этого комнатного видения то, что принято называть грациозной улыбкой, как дверь приоткрывается.
Из-за отблесков стекла я не разглядел, что у этой особы есть еще и бородавки на лице. Причем самые симпатичные, которые мне доводилось когда-либо видеть: черные и серые, с волосами и без волос, по несколько рядом, с трещинами, выпуклые и сплющенные. Весь этот чудный экзотический сад принадлежит этой славной церберше.
— Вы по какому поводу, — суховато, но вместе с тем сердечно спрашивает она. У нее настоящий лионский выговор, по сравнению с которым выговор матушки Коттиве[24] напоминает выговор жителей Анжу. — Полиция, — отвечаю я, не таясь.
Она издает такой возглас, который доселе не слышало ухо фараона.
— Ох, бедняжка! — восклицает она.
Затем отходит в сторону и приглашает:
— Входите же!
Мы проникаем в ее берлогу. Там темно, грязно и пахнет чем-то нехорошим. На небольшой плите в кастрюле на медленном огне варится льняное семя. Густое варево из льняного семени пыхтит крупными пузырями. Берю настораживается, поводит носом, принюхивается.
— Это можно есть? — спрашивает Толстый, показывая на эмалированную кастрюлю, в которой булькает странное варево.
— Да нет, милейший, — жалобным голосом говорит консьержка, — я готовлю себе припарку из льняного семени и горчицы, это помогает при бронхите!
Для доходчивости она легонько покашливает.
— У меня начинается бронхит, — говорит она, — такая погода. В последние дни льет, как из ведра, и пока дойдешь отсюда до входной двери, промокнешь до нитки.
Она освобождает два стула, колченогих, как и она сама, и приглашает нас сесть. Ее жилище состоит из всего одной комнаты. Почти все пространство в ней занимает кровать, на которой Гималаями возвышается пуховая перина. Остальная часть занята столом, который покрыт лоснящейся от жира клеенкой. На столе еще лежат пахнущие прогорклым остатки еды и стопка старых журналов. За этим столом она проводит все свободное от службы время. Ростом консьержка от силы метр сорок, на макушке черепа большой шиньон, как у служанки Клистиров. На шее черная косынка, на ногах дырявые чулки из черной шерсти. При разговоре она как-то интересно высовывает язык: он заостренный и постоянно двигается, как у хамелеона, когда он молниеносно выбрасывает его изо рта, чтобы схватить какую-нибудь мошку.
Понизив голос, она шепотом спрашивает:
— Что случилось?
Берю все чаще и чаще поглядывает на кастрюлю, в которой варится льняное семя. Его неудержимо притягивает запах варева. Он его провоцирует. Мы не успели перекусить, и у него начинаются рези во внутренностях. Насколько я знаю этого весельчака, сейчас для него важно одно: съедобно льняное семя или несъедобно.
— Госпожа консьержка, — очень учтиво начинаю я разговор, — вы случайно, не слышали какую-нибудь возню а доме прошлой ночью?
Она, вздымая свои похожие на метелки из перьев руки к небесам, которые в данном случае заменяет абажур с кисточками, восклицает:
— Бу! Святая Мария Плодородная! Конечно же, милейший! Конечно!