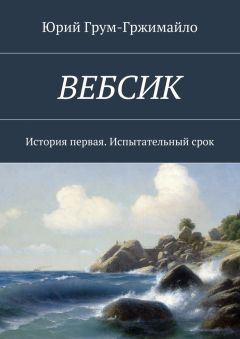Юрий Шурупов - Джокер старого сыскаря
– Я сейчас, Тимофей Кузьмич! – Айрат юркнул в малые, предназначенные для пеших людей ворота.
Через несколько минут к Репнину вышла пожилая башкирка. Её смуглое, морщинистое лицо было приветливым, но узкие тёмные глаза смотрели на незнакомца настороженно. Не отводя пристального взгляда, она тихо спросила:
– Зачем тебе тот человек искать? Она сильно убился, ему злые люди сделали плохо. Айратка глупый, привёл тебя напрасно. Тот человек нету больше…
– Как нет? – сорвалось у Репнина. – Он умер? Расскажите всё, что знаете о нём. Я не злой человек, я его товарищ… епташ. – Тимофей Кузьмич вспомнил подходящее башкирское слово. – Он пропал, а я ищу. Мне надо его найти. Он мой друг! Понимаете, бабушка?
– Фатинья всё понимает, – не сводя умных глаз с Репнина, ответила женщина. – Я понимает теперь, что ты не злой человек. Теперь скажу тебе, что епташ твоя не умирал. Мы его с кызы[66] Аклимка лечил, потом Сабир в своя дом забрал. Иди туда. Айратка уведёт, она знай где…
– Спасибо вам, бабушка Фатинья, – поблагодарил женщину Репнин. – Спасибо, храни вас Бог!
Сын Фатиньи Сабир жил рядом, через два дома. Не прошло и пятнадцати минут, как Репнин изумлённо рассматривал Кнута, которого башкир назвал новым именем – Евгик Шкура. Перед следователем на кровати лежал старый знакомый, вор-рецидивист, оба дела которого Тимофей Кузьмич вёл когда-то. «Кто это дал ему новое погоняло? Евгик Шкура, надо же! Не какой-то там Кнут», – усмехнулся про себя Репнин.
– Вот так встреча! – по-стариковски всплеснул он руками. – Привет, Евгик Шкура! Правду, видимо говорят, что Бог любит троицу. Третий раз мы с тобой лоб в лоб. Не ожидал, честное слово, не ожидал…
Кнут съёжился, напрягся. Внутренне он давно был готов к встрече со следователем, но чтобы им снова оказался Репей – такого Кнут предположить не мог. Был же слух, будто он ушёл на пенсию… Выходит, фуфло толкали[67]? Или…
– Здоро́во, Тимофей Кузьмич. – У Кнута не повернулся язык в глаза назвать бывшего следователя Репьём. – Встреча нежданная, факт. Сейчас соберусь, посиди малость.
– Да ты не торопись, Евгик, – дружеским тоном остановил Тимофей Кузьмич засуетившегося Кнута. – Не затем я тебя искал, о чём ты подумал. Всему своё время. Так что не торопись. Давай-ка мы с тобой перво-наперво побалясничаем по душам, а там видно будет, как дальше нам действовать.
Кнут оторопел. «Темнит чего-то Репей… А куда денешься? Никуда! Ну, как будет, так и будет…»
– Ты ходить-то можешь? – спросил Репнин.
– Всё пучком, могу! Я и бегать могу. – Кнут встал с кровати, подтянув старые, явно не по росту штаны и первый раз улыбнулся. – Не успеешь глазом моргнуть – подорвусь[68] сейчас, Кузьмич, и уж больше мы с тобой никогда не словимся.
– Ну, это мы ещё посмотрим, – в тон ему ответил Репнин. – А пока давай выйдем во двор, там хоть покурить можно. Спокойно и поговорим.
Вышли. От ядрёной летней свежести у Кнута закружилась голова. Он покачнулся на ослабевших от длительного лежания ногах. Репнин поддержал его, и они поспешно опустились на край лежащей рядом с крыльцом большой водопойной колоды для скотины.
– Ну давай, Евгик, рассказывай всё по порядку и без утайки. – Репнин достал сигарету и с видимым удовольствием закурил. – Курить будешь?
– Буду… О чём тебе рассказать-то, Кузьмич? Фаршманулся я по полной, сам видишь. Теперь третьей ходки[69] не миновать. – Кнут с досадой бросил начатую сигарету и затоптал. – Не могу въехать, как ты выластил[70] меня? Я ведь сразу понял, что к матушке моей мусор[71] привалил. А-а, может, это и к лучшему… Надоело всё! Не поверишь, Репей, надоело! – машинально слетело у него с языка прозвище Репнина. – Последний раз забашлять хотел и на этом завязать, а видишь, как оно вышло…
– Что и говорить, Евгик, вышло погано. Пальчики свои, понимаешь, ты оставил на иконах староверческих.
– Во-он оно что… – Кнут горько улыбнулся. – Тогда ясно… Дай-ка, Кузьмич, ещё цигарку… Так ты всё ещё в следаках ходишь? Был слух, будто тебя на заслуженный проводили… Братва вздохнула маленько. Ты хоть и в уважении, да больно цепкий, как…
– Как репей, чего уж там, – рассмеялся Тимофей Кузьмич. – Знаю я вашего брата. А слух верный: пенсионер я, понимаешь, на заслуженном отдыхе. Правда, на досуге помогаю друзьям, а так на рыбалке да в огороде в основном. Ну, это ладно. Ты ведь хотел рассказать чего-то.
– Расскажу, Кузьмич, расскажу. Мне терять теперь нечего… Только и ты обещай, что твои кореша оформят явку с повинной. Пацана жалко, опять без отца… Я ведь планировал получить свой куш за стариковские иконы да свалить с семьёй куда подальше, где никто меня не знал бы. Никто! Шоферить могу, плотничать на зоне научился… Без куска хлеба не остался бы. Так ведь кинули сучары! Эти, Валет с Катькой… Больше-то Катька виновата, конечно. Лапушка, распротуды её в качель! Первое время нормально платила, а в этот раз и половины обещанного не дала. – Кнут глубоко затянулся сигаретой. – В то воскресенье я их случайно встретил в Сосновке, пассажир из города был дотуда. Ну и высказал, конечно, всё, что думал… Вот и получил! Они, похоже, испугались, что я их заложу мусорам. Но я-то ведь не падла, Кузьмич, ты меня знаешь. Отдай моё – и никакой предъявы[72] я бы не толкал. А уж если они со мной так… Тогда скажу тебе, Кузьмич, что тех стариков Катька завалила. Крестом она их… И на Уфимском тракте двоих… она же.
Репнин чувствовал, что Кнуту нелегко даётся его откровение. И он решил сменить тему разговора, чтобы от нервного перенапряжения вор не замкнулся, такое часто случается на допросах. Как можно непринуждённее Тимофей Кузьмич спросил:
– Плевать на неё, Евгик, разберёмся… А явку с повинной я тебе гарантирую. Ты лучше расскажи, как оказался у башкир? Где они тебя подобрали?
– Так ведь плюй не плюй, Кузьмич, а всё через эту тварь и вышло…
Кнут сосредоточенно задумался, поглаживая больную руку. Репнин не торопил. Он превосходно знал психологию преступников и лишним словом боялся испортить так удачно складывающуюся ситуацию. Да что там слово, в таких случаях даже взгляд надо уметь контролировать. И Кнут заговорил, взахлёб, не отводя глаз. Человека прорвало. Это как созревший нарыв, которому скорее бы освободиться от накопившейся гадости, очиститься и начать постепенно заживать, затягиваться свежей, тонкой, легко травмируемой кожицей… Кнут во всех подробностях рассказал Репнину о своей нескладной жизни. Он не жаловался, нет! Он осуждал себя, искренне сожалея о напрасно прожитых годах.
– Если бы ты сегодня не появился, через пару-тройку дней я бы сам к вам в гадиловку пришёл. Честно сказать, Кузьмич, нутром я давно уже решился на явку с повинной. Непросто на это решиться, сам понимаешь. Но я хочу определённости. Посадите – сажайте быстрей. Раньше сядешь – раньше выйдешь. – Кнут надрывно рассмеялся. – Раз уж свалить не подфартило[73]… Только перед тем, как вы меня закроете, я хочу исповедаться в церкви, – неожиданно признался Кнут. – Ты ведь не будешь против, Кузьмич? Я не могу больше так жить! Понимаешь, не могу! На моих руках нет крови, я никого не убивал! Пусть меня ждёт ещё одна ходка, но она будет последней. Перед Богом клянусь! Мне сынишку надо на ноги ставить, за матушкой присмотреть… Жалко вот, крест нательный потерял где-то. – Кнут безнадёжно пошарил здоровой рукой по груди, а в его широко раскрытых глазах всплыло столько мольбы, отчаяния и надежды, что Репнин едва выдержал этот взгляд, с трудом скрыв чувство искреннего сочувствия этому заблудшему, но не пропащему человеку.
– Я понял тебя, Ев… тьфу, зараза, прилипла к языку твоя кликуха, Женя. Не обижайся на старика. Просьбы твои выполнимы, это я тебе обещаю твёрдо. Да и вообще, я думаю, всё будет хорошо. Только теперь постарайся вспомнить во всех подробностях, что же всё-таки произошло в тот злополучный день после твоей встречи с подельниками, вернее, после выезда с ними из Сосновки.
– Да что там вспоминать? Катька с Валетом не спрашиваясь загрузились ко мне в машину и сказали, чтобы я их подбросил до города. Ну, до города, так до города, и мне туда же. Время уж было за полдень. На выезде из Сосновки смотрю – голосуют двое чудаков каких-то: то ли любовники, то ли муж с женой. Я назло своим упырям и подобрал их… Дай-ка, Кузьмич, ещё цигарку. – Кнут жадно затянулся. – Только зло-то, получилось, на себя накликал да на этих дуриков. Знакомыми они оказались с Валетом, но не добрыми. Когда эти чудаки на Уфимском тракте вышли из машины, я сразу понял, что здесь что-то неладно. – Кнут сильно волновался, забывшись, обжёг пальцы об окурок и раздражённо швырнул его в сторону. – Валет с Катькой молчали. Я тоже молча развернулся и поехал обратно. Тут Катька и говорит, масляно так: «Женечка, дай мне порулить, пожалуйста. Давно сама не каталась». А мне-то что – рули, раз уж невтерпёж. Остановил машину. Она села на моё место, я – рядом. Метров сто проехали спокойно, а потом Катька ни с того ни с сего заложила такой поворот, что я аж головой об стойку ударился. «Ты чего творишь?! – кричу. – Перевернуться, су… хочешь?» А она мне так сквозь зубы: «Сиди, Кнут, и помалкивай…» Тут я и сообразил, что она, стерва, надумала. Только хотел схватиться за руль, а она тех двоих в этот момент правым углом капота как ножом и срезала на обочине. Валет сразу чем-то оглоушил меня сзади, ничего больше не помню. Очухался в кювете. Голова как свинцом налитая, один глаз затёк и не открывается, рукой пошевелить не могу, в боках боль, аж сил никаких нет. На ногу сгоряча внимания не обратил, а в ней вывих потом оказался… Беда, Кузьмич, страшно вспомнить. Машины мимо пролетают – ни одна не остановилась…