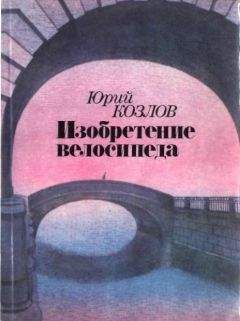Юрий Козлов - Кайнокъ
— Интересно. Ну а гамбургское серебро? Гамбург — это ж немецкий город.
Старики, их было четверо, сочувственно смотрели на него: живет человек, в петлички вырядился, а в голове столь места пустующего…
— Серебро тоже очень старое. Его завезла сюда торговая экспедиция… Вообше-то везла она его за границу, да шустрые людишки подкараулили обоз-то.
— Ну, деды! Такие страсти — на ночь.
— Тому двадцать годов с лишком будет. Тут тс и революция, всякие другие флаги взросли. А кто и без флага баловал.
— Смотрю я, вы тут все торговые… эксперты.
— Жили с того.
Жили-были… Из-за сложного географического положения, щедро напичканная золотом, серебром, медью, железом, углем, драгоценными и поделочными камнями до революции область не развивала промышленность. Три десятка частных крупорушек, десяток кожевенных мастерских, две или три колесные — вся эта немеханизированная индустрия работала на сиюминутные внутренние нужды. Население — по одним данным до ста тысяч душ, по другим — за сто — занималось земледелием, скотоводством, охотой, извозом, работало на купеческих факториях. В единственном уездном городе, выросшем из петровской казачей крепости в предгорной укрепленной линии, на начало века числилось две с половиной тысячи домов, из которых только тридцать восемь были каменными. В одной старой книжке, написанной полицейским исправником и отпечатанной в местной типографии, приводились прелюбопытные сведения о городском населении: шестнадцать потомственных дворян, сорок два священнослужителя, сто тридцать семь купцов, четыре иностранных подданных, четырнадцать тысяч мещан, двести с гаком крестьян…
Как бы там ни было, отцами, работодателями, кормильцами половины простого люда считались купцы: с севера на юг проходила горами старая караванная тропа, по ней круглый год неторопливой вереницей тащились тысячи лошадей, сотни верблюдов, а с ними — возчики, народ пестрый и в основном себе на уме. Купеческие миллионы раззадоривали мужицкое воображение, чуть ли не каждый мнил себя при собственном деле… Ох уж это русское воображение!
Рассказывают, что начало организованной торговли с западными аймаками Монголии положил в конце восемнадцатого века некто Ивашка Хабаров, мужичонка неприметный и бесславный. Сделав одну ходку, набив мошну, он забросил дело, а скоро и совсем сгинул с глаз людских. Куда делся, никто не помнит.
Однако удачная вылазка Хабарова запомнилась на полстолетия. В начале пятидесятых купец Хилев, человек не то чтобы очень уж богатый, но смышленый, рискнул проверить легенду и снарядил нескольких скороходов в разведку в горы. Купчина был из тех рисковых людей, о которых говорят: или грудь в крестах, или голова в кустах… Разведчиков подобрал ловких и дерзких, платил щедро, без счету, как уверяла молва. И скороходы принесли любопытные сведения. Оказывается, в далекой высокогорной степи стоит одинокое дерево. Степь та голодная, пустынная — глина, песок и камень. А в центре этой убогости — то ли сосна, то ли кедр, то ли пихта — что-то очень высокое и зеленое. И стоит это что-то многие сотни лет. И столько же лет ходит о нем молва, будто священное оно. Ежегодно в июле приезжают к нему из Монголии богатые тюрбенцы. (Пирогов так и не понял, национальность это или секта.) Приезжают в сопровождении многочисленного монгольского войска и несметных отар баранов. Тюрбенцы совершают религиозные обряды, возлагают к священному дереву дощечки, а войско занимается торговлишкой. К этому времени стекаются в степь местные горцы — алтай-кижи, теленгиты, кумандинцы. Весной они спускаются в предгорье, общаются с русскими, запасаются товарами, а летом уходят на юг, где выгодно обменивают товары на лошадей, яков, овец: один нож — десять баранов, один топор — двадцать, ружье — двести. Порох тоже на скот выменивается… Задумался Хилев: где берут порох алтай-кижи, теленгиты, кумандинцы? А топоры, а ружья? У Хилева и берут. У других купцов берут. Посуду, сукно тонкое морозовское, сатин, молескин цветной, ситцы персидские фабрики Баранова, сахар, чай, спички, железо полосовое, круглое, пилы, литовки, буравчики, скобки, цепи… Один топор — пять баранов. Одно ружье — сто баранов. А с монголов в два раза больше берут. Ишь, приспособились!
И рискнул купчина. Снарядил караван. Нанял охрану — лихих беспаспортных молодцев, вооружил, все грехи загодя отпустил. И двинулись молодцы в высокогорную степь и после двух месяцев странствий разыскали священное дерево, тучу паломников вокруг него. Обилие купеческих товаров затмило предложения алтай-кижи, теленгитов, кумандинцев. Весь скот, много тысяч голов, — все забрал Хилев. Никому ничего не оставил. Даже надежду на прежние радости.
Рассказывали, будто какие-то люди устраивали засады на пути хилевских отар, табунов, стад. Но не зря платил деньги купец, не зря подбирал в охрану беспаспортных удальцов.
Так в один год вознесся Хилев в «миллионщики», дом каменный против Успенского собора поставил, выделил денег на строительство реального училища, прослыл отцом-благодетелем, радетелем за просвещение. При этом не делал он тайны, как разбогател. С советами не навяливался, но когда спрашивали, охотно рисовал тропу, называл места опасные и просто гиблые. К весне сразу трос умников изготовились в путь, чуть лето проклюнулось, осенились крестными знамениями и выступили с караванами. А Хилев задержался вдруг. Понимал мудрец, запомнился его дерзкий рейд, не простят горцы великой обиды. Так и вышло. Все три каравана были остановлены в узком ущелье, людишки, что построптивей, побиты, что потрусливей — разогнаны, товары разграблены. Три купца на бобах остались. Хоть в петлю головой… Притворно негодовал Хилев: «Что деется-то! Честному человеку в горы ступить нельзя! Куда власти глядят? Надо послать военные команды, виновных примерно наказать!» И двинули власти казаков в горы. А поскольку виновные не сидели на месте, не дожидались плетей и нагаек, хватали всех, кто под руку попадался, пороли нещадно малого и старого за грехи прошлые, за грехи настоящие, в назидание на будущее. Попутно к христианской вере приобщали… А следом шел караван Хилева. Прямиком в Монголию.
С той поры не всходила трава на вилюшке-тропе. И зимой и летом шли по ней вьючные караваны. Принимай, Халха[4], дары земли русской! Один напильник — один сурок. Один складной ножик — семь сурков. Медный тазик — пятьдесят сурков! Выделанная крашеная кожа — сто сурков!.. Ах, ты в долг! Мы и этак могем! Рупь на рупь — шесть рублей. Слюни палец, жми вот сюда, и пусть твой Хубилхан поможет тебе возвратить долг… С процентами…
Сто тридцать семь купцов. У каждого «по тринадцать на дюжину» старших приказчиков. У старших — свои поддужные. По области и в Монголии. Сотни караванщиков потребовались вдруг, сотни расторопных товароведов, служащих и черных работников: весовщиков, грузчиков, конюхов, сторожей, гонцов-почтарей. Как прыщи на теле, вскакивали в области фактории, перевалки грузов, пятистенные ночлежные дома, лабазы, амбары, паромы на горных реках. Одна за другой возникали вдоль тропы деревеньки — три, пять рубленых изб. Как правило, на концах дневных перегонов. Многие мужики потянулись с предгорий вверх, почуяв звонкую монету. Длинна дорога, труден путь в Монголию. Месяц и больше длится. В один конец. Чем кормить лошадей, верблюдов? Особенно долгой зимой… И появились вдоль тропы копны сена, заготовленные бойкими, оборотистыми мужиками: пожалте! Не по карману? Так ведь никто не неволит. Хошь бери, хошь таком понужай дальше.
Звон купеческого золота раззадоривал мужиков к соперничеству. Сила верх над разумом, человечностью брала: в зубы его, в зубы!..
То там, то там красный петух вскидывался в ночи. Бабахали выстрелы.
«А чо, — говорил отпрыск Хилева, подогревая азарт, — мой-то начинал с малого». Чада другого хвастали: «Наш-то с пяти рублей капитал нажил». Сладкая нестареющая песня: не ропщи, человек, куриный твои век, в слезах, в недовольстве не прогляди свой черед.
Как мотыльки на свет, слетались падкие на дармовой медок беззаботные ушкуйники. Баловали на тропеe, заглядывали в деревни, навещали ватагами фактории. «Или все возьмем, или поделись честно». И случалось, делились. Невольно. Случалось, налетала коса на камень, и тогда возвращались под утро деловые мужики молчаливые, угрюмые, перепачканные землей… Кто хватится безродных башибузуков?..
Невероятно, но вся эта жестокая толкучка катилась, кишела без громких слов. Молчком, как в немом кино. Лишь тридцать лет спустя после Хилева появилась глубоко в горах на торговой тропе таможня, а в городе расширилась торговая инспекция. Они внесли некоторую стройность в первобытный содом. Но ударили по маленьким людишкам. Купцы же расширяли конторы, увеличивали приходно-расходные книги. Рынок в Монголии оказался прибыльней внутреннего. Больше и больше ерепенистых неудачников смиряло гордыню, отступалось от частных затей, нанималось на службы. Гамбургское серебро, империалы, русы, пушнина, панты, шерсть, кожа, скот, масло, орех — до одиннадцати миллионов рублей в год! — как вода из падающего сверху родника, касались многих рук и, смочив пальцы, сбегали на банковские счета Хилевых и К0.