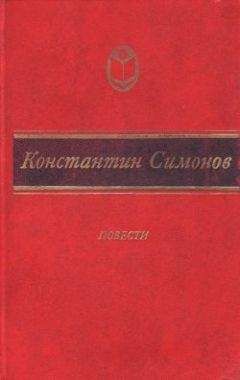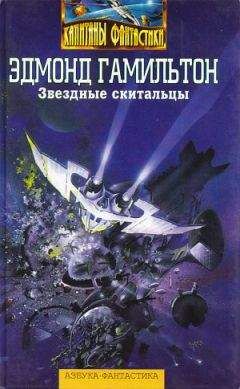Алексей Макеев - Лига правосудия
Бурно обсуждая произошедшее, толпа начала расходиться. Наблюдавшие за происходившим из дверей Стас, Косарев и Фомин вышли на крыльцо.
— Ну, Егорыч, ты и сила! — восхитился Крячко.
— Дай вам Бог здоровья, Илья Егорович, — благодарно сказал Андрей Федорович. — Меня бы они и слушать не стали.
— Угробите вы меня раньше времени, — покачал головой старик. — Кому от этого лучше будет? Ладно, поеду я домой — своих-то мне надо успокоить.
— Подожок-то мой отдай, — подсунулся к нему Митрич. — Рано тебе еще с ним ходить, хоть ты и старше меня. Эк ты им размахивал! Как Илья Муромец дубинкой! Хорошо, что не сломал!
Сидоркин уехал, площадь перед управлением опустела, и Косарев подозвал к себе стоявшего в стороне пэпээсника:
— Где вас черти носили?
— Так подъехать — подъехали, а через толпу пробиться не смогли, — объяснил тот. — Ну, не дубинкой же мне было людей разгонять? Вот и стояли, ждали, чем дело кончится.
Тут Крячко, глянув на часы, спохватился:
— Мне же в химчистку надо, а то у меня Гуров из номера выйти не может. Он же меня с башмаками слопает!
Отказавшись от машины, Стас быстро пошел в химчистку, но, поскольку в первый раз он шел туда с Фоминым и за увлекательным разговором о грядущих бытовых удобствах и перспективах домашнего питания как-то не очень запомнил дорогу, теперь ему пришлось внимательно смотреть по сторонам. Он уже прошел мимо какого-то учреждения, когда до него дошел смысл висевшей возле дверей вывески. Крячко резко развернулся и вошел внутрь — это было районо. Предъявив удостоверение и попутно обаяв всех женщин, независимо от возраста — а уж это Стас умел, он уже через пятнадцать минут сидел и смотрел личное дело бывшего директора детдома Зотова Олега Павловича. Выписав оттуда все, что ему было надо, и мило распрощавшись с женщинами, Крячко уже с улицы позвонил Орлову и попросил:
— Петр! А подними-ка ты свои армейские связи и выясни, где служил капитан Зотов Олег Павлович, уж очень он меня интересует! И информацию передай лично мне, потому что Лева сейчас основной версией занят, так что нечего его отвлекать — вдруг моя пустышкой окажется? — и продиктовал тому все необходимое.
Дело в том, что Крячко вспомнил рассказ кастелянши о побеге из детдома восьми мальчишек, не выдержавших установленной там Зотовым военной дисциплины. Они сбежали в конце сентября, а, проболтавшись неизвестно где побольше месяца, вернулись в ноябре, больные и несчастные. Вот у Стаса и возникла мысль, а не были ли они в том доме? То, что директор детдома обязательно подавал заявление в милицию — несомненно, но раз они все вернулись, то разыскное дело закрыли. Значит, нужно немедленно поднять его из архива и попытаться найти их, подумал он, но по здравом размышлении решил, что делать это ни в коем случае нельзя, потому что одно дело — Зотов и совсем другое — дети. Размышляя на эту тему, Стас в автоматическом режиме дошел до химчистки, забрал оттуда вещи Гурова и понес их в гостиницу. Лев встретил его отнюдь не с распростертыми объятиями.
— Ну ты бы хоть меня предупреждал о том, что делать собираешься, — ворчал он, одеваясь.
— А ты думаешь, я не знаю, что ты только под утро заснул? — огрызнулся Крячко. — Вот и делай после этого людям добро! Сам же виноват окажешься! В следующий раз пальцем о палец не ударю, будешь ходить, как чушка, изгвазданный!
— Значит, ты тоже не спал, — виновато вздохнул Гуров.
— А это, Лева, как в том анекдоте, когда на исповеди поп у бабы спрашивает: «С чужими мужиками спала?» А она ему мечтательно так отвечает: «Эх, батюшка! Да разве же с ними уснешь?» Ну, ничего, зато, начиная с этой ночи, будем спать в разных комнатах — мы к матери Фомина переезжаем. Там и все удобства есть, и кормить она нас будет.
— С чего это вдруг он так осмелел? — язвительно поинтересовался Лев.
— Брось! — поморщился Крячко. — В каждой избушке свои игрушки! Ну, правит здесь бал Егорыч, и что? Нечего было с его сыном собачиться! Причем на пустом месте! Они нормальные мужики! Надеюсь, что ты из-за своей всегдашней фанаберии не собираешься отказываться от переезда? Не взбрыкивай ты, хотя бы из жалости ко мне!
— Согласен, но единственно из сострадания к тебе, — ответил Гуров. — Что нового произошло, пока я спал?
Крячко добросовестно перечислил ему все, что уже успел сделать, о реакции Орлова на местные дела, о странном письме из посольства Таджикистана, на что Лев просто отмахнулся — не до него сейчас, и в красках описал выход Егорыча к народу.
— А что такого интересного ты узнал, когда пройтись пошел? — спросил Гуров. — У тебя, когда ты вернулся, такой вид загадочный был.
— Да просто в церковь я забрел, потолкался там среди стариков и узнал, что Егорыч, оказывается, местный церковный староста. А на день своего ангела, то есть мученика Ильи Персидского, что 10 апреля отмечают, деньги на новую ограду для церкви пожертвовал!
— А-а-а! Ну, это к делу не относится, — сказал Лев. — Знаешь, Стас, я тут вспомнил, как ты говорил о побеге из детдома восьми мальчишек. Найти бы их надо.
— А что это нам даст? Прошло десять лет, дети давно уже покинули детдом, кто-то из них, может, и остался в городе, но вот захочет ли он с тобой разговаривать? Ты представляешь, что им там пришлось пережить? А теперь приходит незнакомый человек, сверкает корочками и начинает копаться в его прошлом, о котором он изо всех сил старается забыть. Ты бы в такой ситуации стал перед кем-нибудь душу наизнанку выворачивать? — задумчиво произнес Стас, потому что именно эта мысль остановила его, когда он сам подумал о том, что нужно найти тех восьмерых мальчишек. — Да и что ты хочешь конкретно узнать? Как их туда заманили? Что там с ними делали?
— Я хочу выяснить, кто и как их освободил, — объяснил Гуров.
— Зачем?
— Эти люди были в том доме, убили охранника, допрашивали якобы Самойловых, а потом казнили их… — начал было Лев, но Стас, вскочив, заорал на него, что позволял себе за все годы только несколько раз:
— С меня хватит! Люди, которым впору при жизни памятник ставить за то, что детишек из сексуального рабства вырвали, для тебя преступники? Которые совершенно заслуженно и справедливо покарали этих сволочей, для тебя преступники? А теперь представь себе, что было бы, если бы детей освободила милиция! Их, и так замордованных, чужие люди стали бы расспрашивать, а что это с ними такое делали чужие дяди? — язвительно произнес он. — Показания бы с них снимали! На экспертизы водили! Просили словесный портрет насильника составить! Заставляли бы детей снова и снова переживать то, что с ними случилось! От такого ведь и свихнуться можно! А город маленький, как чего ни скрывай, все равно слухи поползут — я в этом сегодня наглядно убедился! Родители, которые и так до времени поседели от переживаний, не знали бы, куда от стыда глаза девать! И продолжалось бы это не месяц, не два и не три! Пока бы еще всех насильников нашли! Если бы нашли! — подчеркнул он. — А потом суд! И каким бы он ни был закрытым, а слухи все равно просочились бы! И людям, которые понимали, что их детям в родном городе нормальной жизни уже никогда не будет, пришлось бы с насиженного места сниматься и перебираться куда-нибудь подальше, где их никто не знает, и заново жизнь начинать. А вдруг кого-то из насильников уже после суда бы нашли? И что тогда? Все заново переживать? Мы не знаем, сколько детишек тогда пострадало, но у всех у них жизнь сейчас более-менее наладилась, старые раны зарубцевались, а теперь ты со своими сапожищами к ним в душу полезешь? А за те десять лет, что прошли, эти сволочи, что над ними измывались, скорее всего, уже на свободу бы вышли — у нас же по отношению к преступникам самый гуманный суд в мире! А есть вещи, которые прощать нельзя! Знаешь, Лева! Я вот сейчас на тебя смотрю, и мне страшно становится! Ты, поборник закона, Новоленск вспомни! Значит, за то, что тебе и сибирякам позволено, другим нужно в тюрьму идти? Ну и как? Удобно тебе по двойным стандартам жить? Совесть нигде не жмет? Только кто ты после всего этого? А просто сволочь законченная!
Стас выскочил из номера, так шарахнув дверью, что штукатурка посыпалась. Гуров сидел, уставившись в пол. Он знал, что людям с ним трудно, да ему порой с самим собой было не легче, но он ничего с этим поделать не мог — что выросло, то выросло! Но Стас! Его верный друг Стас сейчас даже не захотел его дослушать до конца, поэтому понял все совершенно неправильно. Высказал все, что накипело у него на душе за многие годы, и ушел. Значит, действительно наступил предел его терпению, на что он, в общем-то, уже намекал. И винить за это Льву было некого, кроме себя самого. А ведь он, начиная разговор, имел в виду совсем другое, потому что про Новоленск никогда не забывал, но никакого раскаянья и угрызений совести при этом не испытывал. И Лев страшно обиделся на Стаса, причем не за то, что тот ему наговорил, а за то, что домыслил то, чего у него и на уме-то не было. Горестно вздохнув, Лев разложил по карманам вещи и документы, надел куртку и пошел в управление.