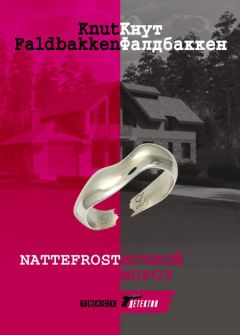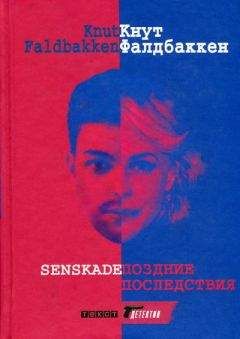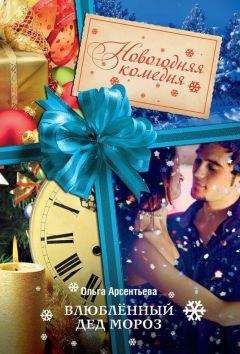Кнут Фалдбаккен - Ночной мороз
Но не для него.
Он помнил эту надпись, помнил буквы, помнил, где он видел их раньше. Он даже помнил тот темный оттенок блестящей панели красного дерева, в которой отражались клавиши. Пианино Лидии Хаммерсенг и название компании-производителя, аккуратно написанное желтыми буквами. «SEILER».
И в голове у него все еще звучал голос Лидии Хаммерсенг, которая предлагала ему дотронуться до клавиш, просто дотронуться: «Вижу, Юнфинн, ты смотришь на пианино. Я вполне могла бы давать тебе уроки, если ты поговоришь с родителями. Уверена, слух у тебя есть».
Смутившись, он нехотя отказался: ведь именно этого ему и хотелось — играть на пианино, он желал бы этого, живи он иной, идеальной жизнью. В картину же его настоящей безрадостной жизни, которую он, пятнадцатилетний, делил с озлобленным отцом в безликой двухкомнатной квартирке в районе Мелумслокка, пианино никак не вписывалось.
Однако здесь, на вилле Скугли, которая, казалось, всегда была залита солнечным светом, он сел на стульчик перед пианино, рядом с фру Лидией, и она, объяснив ему, что такое гамма, попросила его сыграть гамму. «У тебя прекрасные данные, — сказала она, — тебе следовало бы использовать эту возможность, хотя бы попробовать. Смотри, это совсем несложно, нужно лишь захотеть…» Запах, исходивший от нее, был непривычным и таким приятным. Ее длинные тонкие пальцы словно перелетали с клавиши на клавишу, и лишь на одном из них было толстое кольцо из светлого блестящего металла. («Белое золото, — объяснил Клаус, — это обручальное кольцо. Такое золото лучше обычного». Ему нравилось рассказывать о матери что-то хорошее.) Звуки пианино придавали особый характер жизни этого дома, совершенно не похожей на его собственную. Музыка, лившаяся из пианино, превращалась в весну, солнечные блики, в облака или грозу…
«Шопен, — сказала она, закончив играть, словно назвала имя старого друга, часто забегавшего на огонек, — Шопен очень подходит вам, молодежи». А потом добавила: «Я рада, что вы с Клаусом подружились». Она пожала его руку, лежавшую на сиденье между ними, — он положил ее туда, потому что не знал, куда ее девать. Он сидели так близко, что его пальцы дотрагивались до тонкой ткани ее платья. «Ему нужны друзья, у которых другие интересы, не похожие на его собственные, он столько думает о музыке, что иногда я даже боюсь. Я так хочу, чтобы он рос обычным ребенком».
Обычным ребенком. Словно школьные годы — это репетиция, мрачный испытательный срок, которые его другу Клаусу нужно перетерпеть, на протяжении которых ему придется быть нормальным, чтобы потом шагнуть в светлое, легкое и наполненное звуками существование, куда ему самому доступа не будет никогда.
В ответ он лишь кивнул. Прямо перед этим, сидя в подвале, в комнате Клауса, он слушал, как тот играет на скрипке. Он был взволнован, почти потрясен. Но не только из-за музыки. Из-за чего-то, о чем не мог рассказать ей.
А потом они услышали на лестнице шаги Клауса. Фру Хаммерсенг похлопала его по руке. «Подумай над моим предложением. Поговори с родителями», — сказала красивая мама Клауса, встав и улыбнувшись сыну. Она было распахнула перед ним дверь в удивительный мир и тут же вновь захлопнула ее: «Поговори с родителями…» У его отца, который с утра до позднего вечера перевозил мебель, были свои представления о тяжелых пианино и совсем другие мысли насчет того, как его сын должен проводить свободное время. А его собственная мать бросила их с отцом настолько давно, что он и думать о ней забыл.
12
— Не может быть, Юнфинн, ты ли это!
Валманн вздрогнул так сильно, что чуть не выпустил из рук руль велосипеда. Командный голос сменился громким смехом. Он услышал скрип резиновых сапог о гравий.
— Ты-то меня, конечно, не помнишь, зато я помню тебя с тех самых пор, когда ты, мальчишкой, бегал тут почти каждый день.
Нет, женщину, появившуюся перед ним на дороге, узнать было нелегко. Крепко сбитая, около семидесяти лет, одетая, как сельская жительница: на голове — платок, на ногах — низкие резиновые сапоги, а на плечи накинуто бесформенное пальто. В гаснущем свете дня ее фигура казалась расплывчатой. Однако он вспомнил этот прокуренный голос и вкрадчивый, но в то же время настырный тон. Герда Халлинг, соседка, звонившая сообщить о «подозрительных лицах, бродивших вокруг дома Хаммерсенгов». Ну, вот она и поймала одно из таких лиц…
— О, здравствуйте, — смущенно откликнулся он, — я совсем не хотел вас испугать… (Если уж на то пошло, то это она его напугала.) Мне просто нужно было проверить кое-что в доме. — Получилось фальшиво, какой обычно и бывает вынужденная ложь. Полицейские не ездят на работу в спортивном костюме. Он расстроился, однако ее, похоже, такое объяснение вполне устраивало.
— Да уж, вы, полицейские, круглые сутки на ногах.
— Да, работаем сверхурочно… — Он сел на велосипед. Хорошо бы, сохраняя беззаботный вид, дать ей понять, что в другом месте его ждут важные дела.
— Так вы еще не раскрыли эту тайну?
— Тайну?
— Ну, что-то же не так с их смертью, иначе тебе не пришлось бы приезжать сюда вечером что-то «проверять», как ты выразился. Верно?
Ее слова звучали искренне и невинно, однако этого воробья на мякине не проведешь. Ко всему прочему она была права: если бы у этого дела не выплыли такие непредвиденные подробности, то оно давно бы уже считалось раскрытым.
— Мы считаем, что их смерть — семейная трагедия. — Он попытался говорить беспристрастно. — Однако расследование все равно придется провести. Две смерти в одной семье, одновременно… — Ему не верилось, что он поддерживает разговор об этом происшествии. Ему следовало бы поостеречься и не обсуждать расследуемое дело со случайным прохожим.
— Да, оба, — вздохнула она, — кто бы мог подумать, что их жизнь закончится вот так, — голос дрогнул, и на минуту в нем послышалось искреннее сочувствие: — Она-то долго болела, а вот он… Как я им восхищалась — словами не выразишь! Прошел с ней через все мучения ее болезни, а ведь это было ох как непросто!
— Всегда непросто жить с хронически больным человеком. — Валманна все глубже затягивал разговор, который он совсем не хотел поддерживать. Но затронутая ею тема была слишком хорошо знакома ему. Он так и не избавился от того гнетущего чувства, и ему никогда еще не предоставлялась возможность рассказать об этом. Два долгих года своей болезни Бет почти все время жила дома. Оба они постепенно поняли, чем это закончится. Он не был готов столкнуться лицом к лицу с таким поворотом судьбы, у него не было ни особого философского настроя, ни мировоззрения, которое давало бы утешение и обещало бы освобождение от повседневной боли. Трудности, практические и моральные, разбивали и уничтожали остатки доброты и уважения, которые они всегда испытывали друг к другу.
— Ох, как непросто, — повторила Герда Халлинг, довольно вздохнув, словно Валманн угадал правильную реплику, — и характер у нашей Лидии был непростой. Не хочу о мертвых говорить ничего дурного…
Валманну показалось, что он заметил на ее лице тень улыбки.
— Вы хорошо ее знали?
— Я больше сорока лет живу по соседству. Да, она бывала довольно требовательной. А по мере того, как ей становилось хуже, она была все более и более требовательной. А он потакал ей во всем.
— Так оно и бывает. — К Валманну опять вернулись те ощущения, которые, он полагал, давно исчезли. В свое время он с трудом избавился от чувства беспомощности, возникшего во время болезни жены, и мук совести, появившихся, когда все закончилось. Под конец ему пришлось мириться с ее капризами, вспыльчивостью и жалобами, — а все это было так не похоже на ее прежний характер. Сидя в гостиной, он притворялся, будто не слышит, как она кричит на него. Он спал на диване. Он попросил — выпросил — у приходящей медсестры разрешения положить ее в больницу. Его даже не было поблизости, когда она, распластанная на больничной койке, угасла, утыканная канюлями и трубками, похожая на лабораторный препарат, изрезанная, бесформенная и бесчувственная от морфина. Он тогда вышел на работу и был в районе Коппанга в связи с серией ограблений летних домиков. Он вышел на работу добровольно, ему необходимо было уйти из дома, уехать из города, сменить обстановку и вдохнуть свежего воздуха. Он не ожидал, что конец наступит так внезапно, после бесконечных курсов лечения, надежд и неоправдавшихся ожиданий. А потом пришло раскаяние. Пустота. Счастливые воспоминания стерлись. Все это было еще тяжелее, чем само горе.
— Да, у нас с Лидией были хорошие отношения. — Фру Халлинг вернула его в настоящее, чему он был даже рад. — Иногда я немного помогала ей, выполняла ее поручения, когда Георг не мог. Не все же можно доверить социальному работнику, хотя мало-помалу вся работа перешла к ней.
— Так к ним приходили социальные работники?