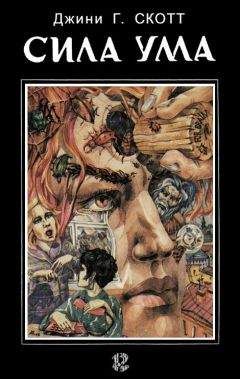Станислав Родионов - Долгое дело
— Вы её любите, что ли? — спросил инспектор, подвергнув этим «что ли» сомнению такую любовь.
Комендант пошевелил губами и сморщился, будто разжевал горсть клюквы.
— Она вас любит? — переменил вопрос инспектор.
— Она себя-то любит раз в месяц — тридцать второго числа.
— Где и как вы познакомились? — решил начать по порядку Рябинин.
— Познакомились в силу известной тесноты мира.
— Подробнее.
— На солнечном юге. Она загорала, а я заготовлял фрукты.
— Подробнее.
— Крепко она меня выручила, отчего жизнь и пошла наперекосяк.
— Подробнее, — взял на себя обязанность вставлять это слово инспектор.
— У меня подотчётные суммы плюс внештатные заготовители, а отсюда и тот фокус, на котором я погорел.
— Подробнее.
— Расходный ордер плюс закупочный акт плюс ордер на оприходование…
— Александр Иванович, — перебил Рябинин, — скажите по-русски, в чём суть махинации.
— Якобы покупал свежие яблоки и перерабатывал в сушёные.
— А на самом деле?
— Сушёные сразу и закупал. Деньги на сушку придерживал.
— Ну и сколько придержал? — полюбопытствовал инспектор.
— Шесть тысяч.
— На что ушли деньги? — спросил Рябинин.
— Известно на что.
— На что?
— Известно на что.
— На винно-водочные изделия, — объяснил инспектор Рябинину и бросил коменданту: — Пил-то небось с Аделью?
— Да, совместно.
— Небось в какой-нибудь «Ривьере»?
— Тогда была в моде «Пальмира».
И промелькнуло, исчезая…
…Мещанство всегда было модно…
У Рябинина был вопрос, но промелькнувшая мысль отстранила его, чтобы уступить дорогу другой, промелькнувшей…
…Мода — показатель морали…
— Как я понимаю, Калязина дала вам деньги для покрытия недостачи? спросил Рябинин.
— Копейка в копейку. А то б посадили.
— Александр Иванович, наверное, миновал срок давности?
— Шесть тысчонок-то я до сих пор не вернул.
— Этими деньгами она вас и держит?
— Которые прогуляли вместе, — добавил инспектор.
Александр Иванович задумался, словно ему предложили построить самолёт.
Неужели он до сих пор об этом не думал? Или не мог ничего решить? Нет, думал, потому что комендант осмысленно и даже с далёкой хитрецой поочерёдно глянул на них, как бы показывая, что сейчас он скажет что-то очень важное.
— Я работал на степях. Там орлов делают ручными, вроде котят. А как? Поймают, наденут на глаза чёрный колпак и посадят на протянутую верёвку, которую качают и дёргают. Попробуй усиди. Орёл же привык к скалам. Измучается птица, охотник колпачок снимет, подставит ей руку и даст мяса. Так всё время. Орёл и думает, что охотник есть самый правильный мужик. Потом выпускают его в небо, а он всё ж садится охотнику на руку. Поняли мой намёк?
— Но это безмозглая птица, — неприязненно сказал инспектор.
— А я как тот орёл. Слаще морковки ничего в жизни не ел.
— И у вас никогда не возникало чувство протеста? — мягко удивился Рябинин.
— Я покрякиваю, да и то редко.
— Что ж, совсем нет характера?
— Характер есть, только я его не употребляю.
Петельников наподдал носком блестящего ботинка какую-то гайку на полу.
— Знаешь что, комендант? Ты хуже Калязиной.
Рябинин отстранился от них желанием подумать о чём-то важном, что может уйти в сутолоку дня… Или хотя бы запомнить то, о чём надо подумать… Причины преступности. О них.
Плохое семейное воспитание, пьянство, чуждое влияние, накопительская страсть… Этих причин называют много. А вот он установил, что главной причиной калязинских преступлений был эгоизм. Сейчас вот понял, что причиной комендантского падения стала бесхарактерность. Нет ли причин и биологических? Вернее, не есть ли преступление результат социального и биологического? Надо подумать.
— Я получу с Адкой поровну? — спросил комендант, насторожённый словами инспектора.
— А как вы считаете? — полюбопытствовал Рябинин.
— Как же… Она накрашена, выхохлена, а я живу, как хорь в норе.
— Вы получите меньше, — успокоил Рябинин, решив сфотографировать кухню и приложить снимок к материалам дела в качестве смягчающего обстоятельства.
Из дневника следователя.
Хорошо, я узнал смысл своего существования — он в жизни для людей. Но тогда встаёт, всё застилая, другой неразрешимый вопрос: как надо жить? Как жить, чтобы жить для людей?
Рябинин проснулся от сильного желания понять, что же ему снится. Сон был долгим и радостным, сознание почти физически ощущало какое-то обволакивающее счастье. Такое состояние в его снах возникало от женской ласки, от несмелых рук и бессильных губ. Или от природы — солнца, прикосновенного ветерка и тёплой воды. Но в этом сне не было ни лиц, ни предметов, ни слов — одно ощущение. И оно виделось, — ведь сны видят, а не ощущают, — сильнее, чем слова и лица.
Он повернулся на бок, чтобы глянуть на часы, и услышал тихое звяканье на кухне. Опять Лида встала раньше…
Зарядка, которая редко делалась с удовольствием, сегодня прямо-таки вливала силы. Даже резиновый пояс, обычно хлеставший по спине, деликатно пощёлкивал в миллиметре от лопаток. И вода, жгучая, как из-подо льда, торопливо скатилась с плеч, словно поскорее хотела миновать нервные точки тела. Рябинин растёрся и начал бриться электробритвой, которую не любил давно и обоснованно за манеру автоматически отключаться и при этом зло пощипываться. Но она отключилась только один раз, ущипнув ласково.
Он вышел из ванной. Стремительные узкие ладони порхнули из-за его плеч и вцепились в уши, принявшись их трепать. До красноты, до крапивного зуда. Рябинин повернулся и сжал Лиду так, чтобы её руки заклинило.
— Сейчас вытру, — улыбнулся он, потому что трёпка могла быть только за мокрый пол в ванной.
Но Лида вроде бы извинения не приняла. Она отстранилась и скороговоркой попросила:
— Убери, пожалуйста, постель.
У него не было постоянных домашних обязанностей. Он помогал, где требовалась физическая сила. И помогал, когда видел, что Лида устала. Эта постель, видимо, была намёком: утром он никогда не помогал.
Рябинин торопливо пошёл в комнату, — домашнего времени осталось двадцать пять минут. Он сдёрнул одеяло, сгрёб подушки, бросил их в кресло и повернулся, чтобы поправить простыню. Ему показалось, что ночник упал со столика на кровать и рассыпался на составные части. Он близоруко нагнулся, всматриваясь…
Электробритва, новенькая, в блестящем модном футляре. Толстый блокнот, мелованная бумага, на обложке ярко-красный букет, как взрыв… Авторучка из какого-то сплава, похожего на золото, длинная, стройная, миниатюрная ракета. Все эти вещи лежали под его подушкой. Вот зачем Лида просила убрать постель…
Рябинин обернулся — она стояла у двери и улыбалась. Он почувствовал, что краснеет и становится таким же ярким, как я горящие уши. Лида подбежала, обхватила его шею кольцом рук и поцеловала длинным, крепким поцелуем в губы.
— Поздравляю!
— Сколько же мне?
Только старики путаются в своих годах. Он забыл про день рождения, но знал, сколько ему, и этот вопрос лишь отражал подсознательное удивление: оказывается, вот уже сколько…
— Сорок.
— Сорок… — протяжно повторил он и опустился в кресло, словно годы сразу вдавили его туда.
Сорок. Не сорок страшны, потому что не так уж они отличаются от тридцати девяти, — страшен год между ними, вернее, миг, в который этот год уложился. Проехал, как машина за окном. А ведь чего только в году не было, и казалось, события, встречи и мысли должны бы его удлинить. Может, сорок первый будет гуманнее?
И промелькнуло, исчезая…
…Пословица. Жизнь прожить — не поле перейти. Да нет! Жизнь прожить что поле перейти…
— Как подарки? — спросила Лида, хотя могла бы и не спрашивать: бритва нужна, а блокноты и авторучки он любил всякие и в неограниченном количестве.
Рябинин притянул жену и посадил на свои острые колени, которые её лёгкое тело лишь почувствовали, не ощутив никакой тяжести. Теперь он поцеловал таким же долгим поцелуем — разве дело в подарках… Они сидели молча, прижавшись друг к другу. Ему нужно было идти на работу. Ей нужно идти. Но они тихо сидели в квартире, в проснувшемся доме, в пробудившемся городе, — был его день рождения. Его день рождения… В этом понятии столько же неточности, сколько и в других человеческих словах и понятиях. У них с Лидой давно всё было общее, совместное, поэтому его день рождения — это её день рождения.
Вот и сон, который начал уже сбываться, а может, и сбылся. Такое же счастье он испытывал там, в ночных бессознательных грёзах. Рябинин теснее прижался к Лидиной щеке — неважно, сколько он проживёт. И неважно, что годы бегут, как такси. Лишь бы те, которые у него, у них остались, можно было бы вот так же тихо сидеть в одном кресле, ничего не говоря и всё понимая.