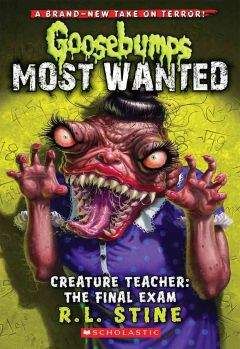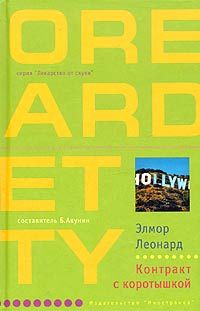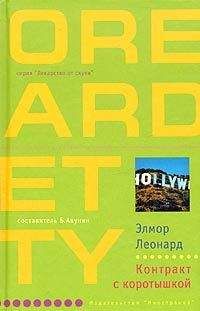Жорж Сименон - Свидетели
— Дайте мне шарф.
— Я ведь предупреждала вас: подмораживает.
Мороз не сковал еще землю, но дневной свет стал уже более резок; к вечеру обязательно похолодает.
— Леопольдина спрашивает, ждать ли вас к обеду.
Когда судебное разбирательство может закончиться в один день, заседание продолжается порой до позднего вечера и даже глубокой ночи. Но дело Ламбера вряд ли завершится сегодня.
— Ждать, но приду я, может быть, чуть позже, чем обычно, — ответил Ломон.
По дороге люди раскланивались с ним, и он слегка приподнимал шляпу в ответ. Большинство встречных, очевидно, полагает, что председатель уголовного суда — человек, уверенный в себе и в своих мнениях. Разве не таким представлял он себе, впервые попав во Дворец Правосудия, почтенного судью пятидесяти пяти лет? В ту пору Ломон был честолюбив, мечтал завершить карьеру в Париже, стать когда-нибудь одним из тех знаменитых председателей, которым поручаются самые трудные и громкие процессы.
На ступенях Дворца еще стояли люди, докуривая сигареты; две девушки, судя по внешности — машинистки или продавщицы, обернулись при виде Ломона и зашептались. Он зашел к себе в кабинет за папкой с документами. Судейскую мантию и шапочку Ломон оставил в совещательной комнате, дверь которой, выходившая в пустой коридор, была приоткрыта. Направляясь по нему в зал, Ломон ни о чем не думал. Вероятно, поэтому нечаянно подслушанная фраза и запечатлелась в мозгу. Ломон узнал елейный голос прокурора д’Армемье, известного своей ученостью: он читал лекции не только в провинции, но и в Париже, и когда разговаривал даже с одним собеседником, все равно казалось, что он обращается к обширной аудитории.
— Меня удивляет, дорогой мой, как это не случилось с ним раньше.
Почему Ломон сразу понял: речь идет именно о нем?
Он негодовал на себя за то, что остановился и выслушал вторую фразу, куда более недвусмысленную, чем первая.
— При той жизни, какую он вынужден вести из-за жены…
Ломон толкнул дверь и чуть было не задел стоявшего за нею, напротив советника Фриссара, прокурора д’Армемье. Тот надевал мантию и на мгновение растерялся.
— Я как раз думал… — забормотал он, лишь бы что-нибудь сказать. Ломон посмотрел на него большими глазами, сейчас, наверно, похожими на глаза Шарля Лурти, третьего присяжного. — …думал, не затянется ли заседание до ночи.
Несколько секунд Ломона подмывало объясниться, сказать, что прошлой ночью он впервые в жизни вошел в бар «Армандо» и не затем, чтобы выпить, — он же действительно, ничего там не заказал, — а чтобы позвонить аптекарю Фонтану, у которого испортился ночной звонок.
Разве это не был бы самый логичный и естественный поступок? Он сказал бы им также и повторил бы Ланди, своему секретарю, который так огорчился утром, почувствовав, что от судьи попахивает спиртным: все дело в выпитой как лекарство рюмке коньяку — без нее у него не хватило бы сил добраться до Дворца. Вот лучшее подтверждение его слов: сразу после утреннего заседания он отправился к Шуару, и врач сделал ему укол пенициллина.
Но Ломон промолчал. Во-первых, из гордости. Нет, главным образом, из гордости. Но также и потому, что внезапно в нем возникло убеждение: они не поверят. Люди обычно инстинктивно не доверяют самым простым объяснениям. Он даже не сказал, как плохо себя чувствует и какие прилагает усилия, чтобы самому довести судебное разбирательство до конца.
«При той жизни, какую он вынужден вести из-за жены…»
Он никогда ни с кем об этом не говорил, даже с близкими друзьями. Характер его не изменился. Он не казался ни мрачным, ни озабоченным. Да и не был таким. Ломон обрел душевное спокойствие, причем не только с виду. Рамки его жизни поневоле сузились, но он удовлетворялся и этим, деля время между Дворцом Правосудия, кабинетом в первом этаже особняка на улице Сюлли и своей спальней, которая, особенно зимними вечерами, когда в камине пылает огонь, становилась его собственным маленьким мирком.
Разве люди, вроде д’Армемье, стремящиеся поспеть всюду, подстегиваемые нехваткой времени и обязанностями, которые все накапливаются и накапливаются, — разве они получают от жизни больше радости?
Последним появился судья Деланн с крошками на лацканах пиджака. Секретарь просунул голову в дверь, вопросительно посмотрел на председателя, распахнул обе створки и объявил:
— Суд идет.
С первого взгляда стало ясно, что большинство публики осталось на местах, занятых во время утреннего заседания, и в зале мало новых лиц. В перерыве помещение так тщательно проветрили, что оно выстудилось, и Ломон даже подумал, не выключены ли батареи парового отопления. Присяжные успели перезнакомиться, и г-жа Фальк, кажется, уже откровенничает со страховым агентом, своим соседом.
— Введите первого свидетеля.
Люсьена Жирар тоже сидела на прежнем месте, и взгляд ее встретился со взглядом Ломона. Хотя прошло много лет, трудно предположить, что она его не узнала. Однако лицо ее не дрогнуло, и по его выражению было невозможно угадать, что они когда-то встречались. Она смотрела на Ломона столь же бесстрастно, как незадолго до того смотрела на обоих заседателей, и он интуитивно почувствовал, что она поступает так в силу неписаных правил, которые в определенной среде соблюдаются строже, чем законы.
Ломон спрашивал себя, знакома ли Люсьена с Ламбером, и не решался ответить утвердительно. При всей своей агрессивной вульгарности, Ламбер — красивый самец. Они с Люсьеной принадлежат к более или менее одинаковой среде, оба живут за пределами официального общества. Ломона не оставляла мысль, что если бы Люсьена и Ламбер встретились раньше, то на завтрашнем заседании речь, возможно, пошла бы не о некой Элен Ардуэн, а о Люсьене Жирар. Он был убежден, что в таком случае события, вообще, развернулись бы по-иному, и постарался выбросить из головы образ, возникший при воспоминании о взгляде, брошенном на него, Ломона, молоденькой продавщицей под винтовой лестницей, и улыбке, с которой она объявила:
— Мадам Люсьена занята.
Нет, не надо предаваться фантазиям. Он находится в реальном устойчивом мире, где у него есть определенные обязанности. Ломон взял карандаш и отчеркнул абзац в показаниях первого свидетеля на следствии.
Он заранее знал, что скажет каждый из свидетелей: у него перед глазами были ответы на вопросы, которые Каду задавал им в течение нескольких месяцев.
— Ваша фамилия, имя, возраст, профессия?
— Жюльен Мабиль, тридцать четыре года, помощник начальника вокзала, домашний адрес — Ивовая улица, сорок один.
Свидетель был среднего роста, округлые жирные плечи говорили о предрасположении к полноте, маленькие усики не старили, а скорее молодили его. Мабиль явился не в форме железнодорожника, а в штатском, которое явно ему не шло.
— Вы клянетесь говорить правду, всю правду, только правду?
— Клянусь.
— Расскажите теперь господам присяжным, что вам известно о событиях, произошедших двадцатого марта прошлого года.
Мабиль вызубрил свои показания наизусть и, повторяя их, поднимал иногда глаза к потолку, словно в поисках забытого слова.
— В тот день я заступал на дежурство по товарной станции в шесть утра и вышел из дому без двадцати шесть. Я живу во флигеле на Ивовой улице, что в верхнем конце Железнодорожной, и чтобы сократить расстояние, обычно иду на работу вдоль полотна.
Тут свидетель в первый раз возвел глаза к потолку и, помолчав, продолжал:
— Зимой я беру с собою электрический фонарик, но в марте в это время уже светло, и против Котельной улицы я заметил, что на откосе пути прибытия что-то лежит.
В протоколе, который просматривал Ломон, следователь прервал в этом месте свидетеля и уточнил:
— Если не ошибаюсь, Котельная улица перпендикулярна Железнодорожной. А как расположена по отношению к ним Верхняя улица?
Ламберы жили на Верхней. Это самый старый район города с причудливым сплетением переулков и тупиков, где иным домам уже лет по триста. С незапамятных времен муниципалитет планирует снести этот, как его называют, «рассадник заразы», но отпустить необходимые средства до сих пор не удосужился.
На вопрос следователя Мабиль ответил:
— Верхняя улица переходит в Железнодорожную чуть ниже Котельной. Расстояние между ними не более ста метров.
В суде свидетель это уточнение опустил, сочтя его излишним. А ведь можно держать пари, что некоторые присяжные, например г-жа Фальк, никогда не забредали в этот район.
— Мне показалось, что на откосе лежит человек, и я ускорил шаг, — продолжал свидетель. — Еще за несколько метров я уже различал труп женщины, голова которой была, очевидно, отрезана поездом.
По залу прокатилось нечто вроде тяжкого вздоха, кое-кто побледнел. Одному мужчине, сидевшему в первых рядах, пришлось даже выйти.