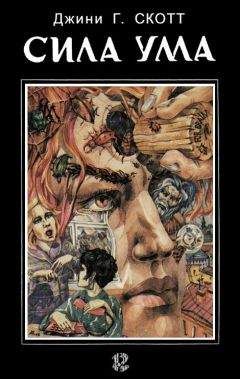Станислав Родионов - Долгое дело
— Сергей Георгиевич, вы? — удивился дежурный.
— Я, — нехотя подтвердил Рябинин.
— Что за сабантуй? — Петельников вошёл в дежурку, вопрошающе присасываясь взглядом к Рябинину.
Дежурный коротко рассказал. Инспектор вроде бы не поверил и повернулся к свидетелям. И уж потом к задержанному:
— Как звать-то?
— Пётр, — нехотя ответил парень.
— У меня, Петя, есть одно мучительное сожаление. Лет десять назад я отказался от двухнедельной поездки в Крым, данной мне в поощрение за поимку Васьки Лохматого. Ты, Петя, прибавил ещё одно — я теперь всю жизнь буду сожалеть, что не оказался в магазине вместо этого гражданина в очках.
— Он первый схватил меня, — буркнул парень, не выдержав давящего взгляда инспектора.
— Возбудим уголовное дело и его задержим, — решил дежурный, начиная писать протокол.
— Не надо, — тихо сказал Рябинин.
— Почему?
— А зачем?
— Как зачем? — теперь удивился Петельников.
— Мне придётся идти к эксперту для освидетельствования, давать показания, являться в суд…
— Тогда что ж, отпустить? — не понимал дежурный.
— Я прошу.
— Ну, если вы просите. — Дежурный скомкал протокол. Но взгляд инспектора требовал какого-то иного ответа.
— Вадим, что это за следователь, которого можно бить?..
Отпуская свидетелей, дежурный всё-таки переписал адреса.
— Иди, Петя, — ласково сказал инспектор.
Стоило парню закрыть дверь, как в дежурку торопливо вошёл Леденцов.
— Ты его видел? — спросил Петельников.
— Так точно, товарищ капитан.
— А он тебя?
— Никак нет.
— Проверь-ка этого фрукта. — Инспектор кивнул на дверь.
— Есть, товарищ капитан.
Рыжий шар его волос огнём пересёк дежурку и пропал.
Боль в челюсти усилилась. Продолжало цокать в затылке, отзываясь на торопливые стуки сердца. Рябинин сел и тихо вздохнул.
— Может, показаться врачу? — спросил инспектор.
— А, пройдёт…
— Я тебе звонил. Завтра ты можешь понадобиться.
— Буду дома.
— Знаешь, чем отличается работа инспектора от работы следователя? Инспектор борется с врагом невидимым, а следователь — с видимым.
— Это к чему?
— К тому, что видимый преступник уже пойман инспектором.
— А это к чему?
— К тому, что следователю уметь драться необязательно.
Рябинин попробовал улыбнуться, но разбухшая челюсть пресекла эту попытку.
— Подбрось меня до дому…
В машине он догадался, что ноет у него не только челюсть и не столько челюсть. Болело без физической боли, без определённого места — не на теле и не внутри. Что это? Обида, мучила обида… Его избили, а он простил, как святой. Смысл жизни — в любви к людям. Но ради любви к людям и нельзя прощать. А его избили, как мальчишку. Что за следователь, которого можно избить?.. Судиться с хулиганом? Чтобы все — судьи, свидетели, публика подумали: ну что это за следователь, которого можно избить?
Рябинин вдруг поймал себя на странных усилиях — он подсознательно перебирал годы своей жизни, что-то там выискивая. И начал с детства, с юности. Он оттолкнул эти глупые поиски, но они продолжались помимо его воли. Что это? Не ударился ли он затылком об пол?
Машина с синим огоньком на крыше бежала по проспекту, а Рябинин сутяжно копался в своей биографии.
Второклассником он выкопал на колхозном поле кустов десять картошки украл. Но это с голоду, из-за войны. Однажды разорил гнездо какой-то стонущей над головой птицы. Но это мелочь. Поймал сбежавшего у соседки кролика и не вернул. Но кролик и у него сбежал. Однажды видел на улице, как били человека, и не вступился. Не успел — вступились другие. В восемнадцать лет осудил отца за неуживчивость и плохой характер. Но за эту отцову обиду он вроде бы расплачивается до сих пор — его тоже считают человеком с плохим характером. Лиду обижал. Но ведь сам-то мучился не меньше…
Отыскал, болезненная память отыскала. Одно из первых уголовных дел. Кажется, третье. Не имея опыта, введённый в заблуждение показаниями дуры, он привлёк к уголовной ответственности студента техникума. Якобы тот ударил женщину… Потом всё стало на своё место, но это потом. А тогда семнадцатилетний студент даже заплакал. И за эти слёзы Рябинину ничего не было — ни выговора, ни вызова к начальству.
Он вздохнул свободнее, тут же удивившись этой свободе. Пришло облегчение. С чего же? Ненасытное чувство справедливости… Ненасытное чувство справедливости согласилось зачесть магазинный удар как расплату за слёзы студента. Обида уходила. Пусть зачтётся…
Рябинин обессиленно распахнул дверь и втиснулся с мешками в переднюю.
— Боже, что с тобой? — ахнула Лида, прижимая руки к груди.
— А что со мной?
— На тебе лица нет…
— Что же вместо? — попытался он улыбнуться, сразу остановленный болью в нижней челюсти.
— Ты заболел?
— Лида, я упал…
Рассматривая стены передней, он рассказал, как зацепился за какую-то трубу и загремел по асфальту вместе со всеми мешками. Лида застонала и принялась бегать по квартире, делать примочку на челюсть, ощупывать его лицо, разбирать мешки, причитать и задавать бесконечные вопросы:
— Очки целы?
— Вроде бы.
— Серёжа, ну почему ты так невнимателен?
— Засмотрелся на витрины.
— Серёжа, сыр расплющен, как трактором.
— Неважно, он всё равно был без дырочек.
— Серёжа, почему вместо двух банок зелёного горошка ты купил четыре банки фасоли?
— Разве?
— Серёжа, а это что?
Отстраненно, как выковырнутую из земли мину, Лида держала алюминиевый бидон. Тот, старушкин.
— Бидончик.
— Откуда он?
— Нашёл, — нашёлся Рябинин.
— И не отдал?
— Кому? А в хозяйстве пригодится.
— Серёжа, я тебя не узнаю…
Лида хотела сказать, почему не узнаёт, но её взгляд пал на белый комок в рюкзаке.
— Какая-то бумага…
— Ну почему «какая-то»? — начал он раздражаться её дотошностью. Обёрточная, в которую продавцы заворачивают колбасу.
— Серёжа, я не знала, что колбасу теперь заворачивают в милицейские протоколы.
Из дневника следователя.
Я всё чаще прощаю. Почему? Потому что одному я в своё время простил по мягкости характера, второго пожалел, третьему не сумел отомстить… Вот и думаю: почему я должен мстить новому обидчику, когда столько ходит неотмщённых?
А теперь, когда я понял, что смысл жизни сводится к человеческим отношениям, сводится к жизни для людей, слово «месть» мне кажется глупым, смешным, каким-то средневековым. Я вот думаю о другом…
Допустим, знакомый человек, сосед, приятель, родственник, сослуживец тебя оскорбил или сделал пакость. Да, можно злиться, мстить, затаить злобу… А если представить, что этот человек умер? Нет его больше и никогда не будет. Он больше никогда не оскорбит, не обругает, и ты его больше никогда не увидишь. Никогда! Я не знаю, какое возникнет чувство к этому обидчику… Нет, знаю — жалость. И эта жалость потрясёт обидчика сильнее, чем любая месть и злоба.
Добровольная исповедь.
Как вы заметили, я люблю энергию и расторопность. Но не до такой степени. Мне кажется, что теперешняя жизнь как-то лошадеет. Народ по улице идёт табуном. Машины едут табуном. Молодые люди не смеются, а ржут. По вечерам я слышу под окном «И-го-го!». Над головой всю ночь кто-то бьёт копытом в потолок. Женщины одеваются в шкуры с шерстью и ходят, как гнедые да каурые, — я имею в виду дублёнки; это вместо благородных-то мехов, вместо соболей и песцов. Дворничиха, увидев меня, фыркает по-лошадиному. Соседка говорит мне что-то вроде «тпрру». Заведующий санэпидстанции, завидев меня прядёт ушами. А мне всем им хочется сказать: «Но-но, не балуй!»
Зашла вечером в молодёжное заведение — что-то среднее между рестораном и лекторием. Короче, дискотека. Танцуют не парами, а скачут табуном посреди зада, как хорошая конница. Мороженое едят стоя, по-лошадиному. Рюмочку ликёра пришлось выпить стоя, по-лошадиному. А знаете, как называется затейник, который командует танцами? Диск-жокей. Но никакой лошади у него нет. Знаете, как он обиделся, когда я, позабыв эту должность, назвала его кучером…
Лошадеет жизнь, лошадеет. А может быть, не жизнь лошадеет, а я старею? Может, кобылка уморилась?
За высоким парнем в голубой куртке следить было легко. Он сел в трамвай, проехал четыре остановки, купил в ларёчке сигареты и пошёл головой вперёд, словно взламывал лбом невидимые стены. Через несколько домов парень свернул под арку, в центр квартала, где особняком стояло невысокое здание.
Леденцов прибавил шагу и у опавших липок нагнал его:
— Друг, закурить не найдётся?
Парень глянул сверху вниз на горевший чуб, на зелёный плащ, на болотные брюки, на лягушачий галстук, на ботинки цвета опревшего сена. Усмехнувшись, он протянул сигарету из распечатанной пачки и полез в карман за спичками. Леденцов сигарету взял, но от огня отказался: