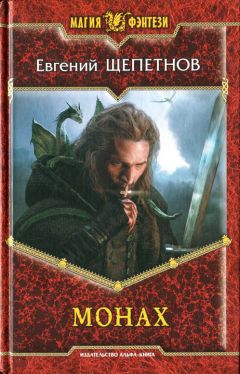Евгений Монах - Смотрю на мир глазами волка
— Куда двинем? — нарушил молчание Дантист, когда парк остался далеко позади.
— Не знаю… А впрочем, пойдем-ка посидим в один уютный скверик.
По дороге я купил в булочной длинный батон хлеба за двенадцать копеек.
— Ты чего? Голоден? — спросил Дантист. — Тут кафе недорогое поблизости. На углу.
— Нет, — усмехнулся я. — Просто очень вдруг захотелось совершить что-нибудь этакое…
Мы вошли в сквер. Я был сильно разочарован. Непоседы воробьи отсутствовали! Вечный закон подлости!
— Ну, да ладно! Будет воробьишкам приятная неожиданность. Сытный завтрак! — я присел на скамейку и раскрошил хлеб на тротуар.
— Знаешь, — попыхивая сигаретой, сказал Дантист. — Я уже давно хотел завязать с Артистом, да духу не хватало. А когда ты заговорил об этом, я подумал — берешь на пушку. Провоцируешь… — Дантист провел ладонью по своему свекольному лицу. — Даже не верится, что, все-таки, развязался! А здорово ты вздул Серого! Так ему и надо, шакалу!
Мне бы остаться одному, отдохнуть от впечатлений, но не мог я вот так просто прогнать коротышку, которого, как видно, никто нигде не ждал.
— Слушай, я все хотел спросить, зачем ты тогда билетами в кино торговал? Ведь бабки, как понимаю, у тебя водились. Верно?
Дантист, казалось, был сильно смущен, даже отвел глаза в сторону.
— Да. Бабки имелись. Точно. Но… не мог я на них сестренке подарок купить… Короче, не хотел, чтоб она возилась с игрушкой, купленной на эти деньги… Ворованные!
Я даже немного растерялся от такой неожиданной щепетильности и тонкости души. Мне, признаться, подобная мысль и в голову не пришла бы.
— Ну, ладно! А спекуляция билетами — чистый благородный труд?
— А что? Тут никакого обмана. Желают — берут, не желают — не берут. И, главное, никакого насилия…
Вечерело. Суетливый шум улиц начал понемногу утихать. Солнце еще не скрылось, но на темной голубизне небосвода уже угадывалась ущербная луна.
Отоспавшийся за день, свежий ветерок без дела бродил по городу, из шалости забираясь иногда в водосточные трубы и весело посвистывая оттуда, вызывая своих братьев-ветродуев на игру.
— Ну, пожалуй, простимся, Дантист! — протянул я руку.
— Меня зовут Альберт, — как-то смущенно улыбнулся тот, отвечая на рукопожатие.
— Прощай, Альберт!
— Счастливо, Евгений! Зря все же бабки отдал, они бы тебе еще пригодились.
— Пустяки. Все ол’райт.
Не спеша, я направился домой. Какое-то чувство неясного беспокойства заставляло невольно замедлять шаги. Вот и не верь после этого предчувствиям!
Дома меня поджидал наряд милиции и мама с посеревшим лицом, твердившая, как заклинание, что все это недоразумение…
После обыска, на котором в качестве понятых присутствовали соседи, меня, втолкнув в милицейский газик, доставили в камеру предварительного заключения.
Дело в том, что покойный сержант, еще когда мы были в магазинах, записал, бюрократ, номера мотоциклов, не поленившись стереть грязь.
Как я позже узнал, Генрих, Артист и Серый были задержаны уже в парке. Какой-то сознательный гражданин звякнул в дежурную часть, что там дерутся хулиганы.
Следствие и суд прошли для меня кошмарным сном. На суде, уже наголо обритый, я вел себя вызывающе-нагло. Только это помогло мне не унизиться до слез.
Мама, мгновенно постаревшая, сидела в зале заседаний, опустив голову, будто судили ее.
Через день после оглашения приговора мне передали от нее записку: «Первый раз в жизни я рада, что твой отец с нами не живет. Ему не пришлось пережить позора, который принес ты».
12Самые тяжкие в неволе, — шутят зэки, — это первые пятнадцать лет. Потом привыкаешь…
Когда нашу группу в три десятка осужденных, наконец, отправили на этап в зону, я воспринял это как счастливый лотерейный билет. Тюрьма за полгода обрыдла до предела. Бывало, в камеру на тридцать человек набивали до сотни. Понятно, что за климат, в прямом и переносном смысле, там царил. Дышать было нечем, и братва, озверев от этого ментовского беспредела, готова была по любому пустяку глотку порвать. Даже своему брату заключенному. Плюс ко всему — неудобоваримая тухло-прокисшая баланда и постоянная напряженка с куревом и чаем.
Нервы у всех были на крайней точке кипения. Хотели мы уж бунт поднять, но в камере оказался стукач, и самых активно-агрессивных опера быстро выдворили в тюремную больничку. Естественно, для профилактики, сначала сломав им несколько ребер и отбив почки коваными сапогами и резиновыми палками, которые какой-то мрачный шутник окрестил «демократизаторами». Впрочем, кажется, это название появилось попозже — при горбачевской перестройке. Сейчас уже не припомню точно.
Что меня всегда удивляет, неужели своей жестокостью менты рассчитывают перевоспитать уголовников? Тогда они просто дебилы. Ладно бы, наш брат сидел за колючкой всю оставшуюся жизнь. Тогда еще можно было бы отыскать в пыточных методах зачатки логики и смысла. Но ведь все мы когда-то выйдем из-за забора. И девяносто девять процентов освободившихся станут законченными зверюгами, которые отыграются за личные мучения на простых обывателях. Потому, как все люди по другую сторону забора зэками воспринимаются как заклятые враги. Такой вот парадоксальный расклад. И виноваты в этом извращенном восприятии действительности люди в погонах и с дубинками в руках. Между прочим, складывается стойкое впечатление, что работают в тюрьмах и лагерях исключительно садисты и алкоголики, которые не только чужую, но и свою жизнь в грош не ставят. Да и из кого формируется контролерский контингент лагерей? Проштрафившихся, заворовавшихся и спившихся ментов, уволенных из райотделов милиции. Факт общеизвестный.
И какой выход? А нет его. Тупик. В эту систему нормальные люди никогда работать не пойдут. Подобное просто ниже их человеческого достоинства. Надо перестать лицемерить, считаю, и назвать исправительно-трудовые колонии настоящим именем — фабрики преступников. Честнее будет.
Ко мне сокамерники не вязались. Дело тут в уголовной статье, по которой я проходил. Семьдесят седьмая — вооруженный бандитизм — внушала братве если не опаску, то почтение. Хоть и срок-то был у меня «детский» — четыре года, так как на момент преступления я еще относился к малолеткам несовершеннолетним.
Даже месячные продуктовые передачи мои не половинили, как у других мужиков. Правда, здесь, возможно, сыграла свою роль моя спортивно-натренированная фигура и мрачноватый взгляд исподлобья, ясно говорившие, что со мной так просто не совладать.
Ехали в зону мы в переполненном автозаке. Что любопытно, перестройка еще не началась, а бензина уже на все машины не хватало, впрочем, как и всего остального. Думаю, за счет всех этих наглых хищений госимущества и выросли грибы-мухоморы — «новые русские», миллиардеры. Негде им было просто-напросто взять денег, кроме как из дырявого кармана государства. Конечно, мысль эта явно не нова и всем гражданам очевидна.
Иногда даже приходит в голову мысль, что для разболтанно-расхристанной проворовавшейся России свой Пиночет необходим на годик-другой. Ясно, при непременном условии, что он добровольно, по чилийскому примеру, отдаст власть обратно парламенту. Но такое маловероятно. Власть, как известно, затягивает посильнее, чем алкоголь некоторых наших нынешних лидеров. Между прочим, генерал Лебедь принципиально в рот не берет спиртного, что является уже огромным плюсом для российского политика.
Впрочем, я, как всегда, отвлекся на второстепенные темы.
Лагерь, куда нас доставили, считался образцово-показательным, то бишь верховодила здесь администрация учреждения, опираясь на «козлов» — зэков, продавшихся ей за мелкие привилегии, вроде добавочных продуктовых передач и свиданий с родственниками. В основном это физически развитые кретины, не сознающие единственной извилиной, что на долгожданной воле их ожидает перо в живот или пуля в затылок. Существуют, конечно, и более жестокие способы возмездия. «Колумбийский галстук», например, почему-то нечистоплотными журналистами прозванный в России «чеченским». Это, когда надрезают горло и высовывают язык наружу. В натуре, похоже на галстук.
Первое в своей жизни убийство я совершил в этой зоне. Так уж вышло. Вины за собой не чувствую ни на децал. Просто другого выхода не видел. Да и не было его. Поэтому и приговорил падлу. Даже личного вафельного полотенца не пожалел для этого дела.
Следственный изолятор Екатеринбурга удобно располагается впритык к исправительно-трудовой колонии. Так что ощущали мы себя сельдями в бочке всего каких-то пять минут. Хотя оформление бюрократических бумажек на нашу передачу в учреждение заняло в несколько раз больше времени.
Но, наконец, железные двери автозака распахнулись и весь этап оказался в «предбаннике» — каменном мешке под бдительной охраной десятка прапорщиков с овчарками на коротких поводках. Псы, к слову, вели себя смирно, раздвинув клыкастые пасти, не лаяли и не рвались из жестких ошейников, глядя на нас умными человечьими глазами. Правда, из каждой собачьей пасти текла почему-то обильная слюна. Но мысль, что они собираются нами пообедать, я сразу отбросил, как неосуществимую. Скорее мы порвем глотки псам. Человечья стая поопаснее волчьей. Псы, наверно, это чувствовали.