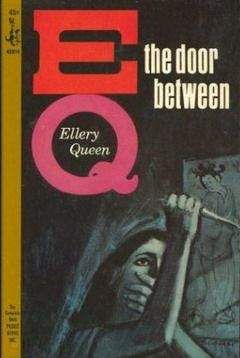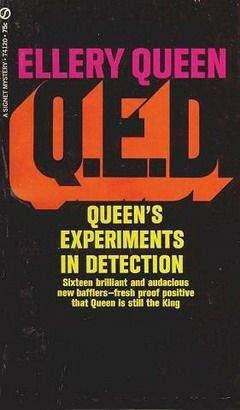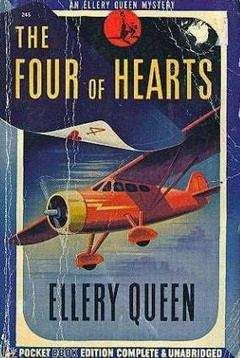Владимир Соколовский - Возвращение блудного сына
Семен отворил дверь, ведущую на лестницу, пропустил вперед Баталова. Сам следом застукал по ступенькам.
Тотчас, как за ними закрылась дверь, во двор вошли двое. Оглядевшись, тихо скользнули вглубь, где под липками еле проглядывалась маленькая скамейка. Сели. Тонкогубый, кудрявый, в клетчатой кепке парень запрокинул лицо, подставил его под стекавший с лип ветерок и засмеялся счастливо. Другой — русый, стриженый и скуластый — был хмур и напряжен.
6
Скрылся с большой суммой денег старший бухгалтер сплавного треста Зузыкин. Дознание показало, что в последнее время Зузыкин много пьянствовал, имел подозрительные знакомства, был неразборчив в отношениях с женщинами. Это и привело его на преступный путь. Зузыкин — выдвиженец, в прошлом красный командир, храбро воевал с Врангелем и на колчаковском фронте. Здесь живет немало его боевых товарищей. Фактически на их глазах произошло падение. Но рука фронтового братства не остановила вовремя бывшего командира в трудную для него минуту, не поддержала, не направила на верную дорогу. То же относится и к сотрудникам.
Позор! Как можно оставаться в стороне, если гибнет товарищ!
Карпов— Не за то ли меня мамонька бранила:
«Ты куда, дочи, колечико девала?»
Я девать-то его не девала,
Я терять-то его да не теряла,
Укатилось колечико да под крылечико…
Тяжко, тяжко. Брезжит свет, движутся тени. Малахов застонал, зашевелился, попробовал вглядеться в муть. Пение прекратилось. Что-то зашуршало, задвигалось, послышались шаги. Громче, громче, ближе, ближе. Ладонь легла на грудь, раздалось насмешливое:
— Ожил, страдалец?
Невыносимой зевотой вдруг подернулся рот Николая; мускулы лица напряглись, и он смог наконец приоткрыть глаза. Сначала было марево, но моментально развеялось, и возник кудрявый, тонкогубый парень. Голос низкий, вкрадчивый:
— И верно, ожил. Мать, чаю! Или водки тебе? — Парень хохотнул. — Небось сразу бы соскочил. Ну, ничего, теперь быстро — у нас докторишко пьяница, а ушлый. Дай-ко я тебя сам попою.
Он поднял Николаю голову, подложил подушку. Тот сделал глоток, задышал, закашлял. Но вода уже лилась по воспаленному пищеводу, и он, сделав нетерпеливую гримасу, пил и пил.
Наконец парень отошел, подмигнув:
— Спи! Ты, мать, не мешай, не скули тут — вишь, отдыхает человек.
А потом не было ни песни, ни шелеста шагов; жужжала муха, и громыхали по улице телеги. Малахов лежал на спине, неподвижно, глаза щипало, слезы сказывались и застревали в щетине небритых щек. Он уснул, забылся, и с той поры дни пошли над ним сплошной мутной пеленой. Бубнили на кухне голоса, семенила по комнате тихая светлая старушка. Иногда присаживалась на табуретку рядом с кроватью и пела: «Ты куда, дочи, колечико девала?..» Но худо было, если слышал, как она поет в горнице, ее сын — Федька Фролков: он отзывал мать в кухню и там бил быстро и жестоко. Раздавался сдавленный крик, удар, Малахов слышал, как шлепалось тело на пол или об стенку. Николай задыхался от ярости, рвался с кровати, пытаясь подняться, но сил не было еще, и он снова катился в сумерки.
Федька, улыбаясь и поигрывая витым поясочком, входил как ни в чем не бывало в горницу, садился к кровати, спрашивал о том о сем, дразнился, рассказывал анекдоты и нес похабщину.
С первых еще проблесков сознания к Малахову пришла мысль, уже не покидавшая его: где он? Что такое, в конце концов, с ним опять случилось, черт побери? Очутись он в тюрьме, больнице — тогда все было бы ясно, а тут — мухи летают по горнице, кричат под окном люди, подрагивают белесые Федькины ресницы…
Он долго не решался задать Федьке свои вопросы, словно боялся известности положения, ибо лежать было спокойно, а каждое усилие души требовало и усилий больного еще тела.
Однако все-таки решился. Фролков похмыкал:
— А я почем знаю? Прихожу это домой, гляжу — разлегся на кровати, как барин… ха-ха!.. Да ладно, не бойсь, шутю я…
Больше этой темы не касались. Федька, верткий, как угорь, шустро и умело уклонялся от нее.
Иногда к нему приходили гости. В горницу не заходили, сидели на кухне, толковали вполголоса (мать Фролков во время их визитов выгонял из дому). Пили водку, страшно ругались, тянули чисто и высоко:
— Прос-чай, моя Одеста,
Мой славный Кя-рантин, —
Нас завтра угоня-ають
На остров Сахалин…
От этих песен холодок пробегал по малаховской спине; он отворачивался к стене и затихал.
Кормили хорошо — скоро Николай встал на ноги. Прошел по горнице, цепляясь за стены. Заглянула Федькина мать, охнула, улыбнулась, развела руками…
В этот день у Фролкова начался запой. Он стал приходить домой поздно ночью или утром, неверным кулаком бил мать, сопя и ругаясь, и валился обычно тут же, возле порога, обессилев. Просыпался и снова исчезал. Несколько раз спрашивали его, но Федьки не было дома, и люди уходили. На пятый день, проспавшись к полудню, Фролков зашел в горницу. Был он избит и изодран, черен лицом. Нетвердо подошел к кровати, сипло поперхал и спросил:
— Ну, кореш, как житуха? Все валяешься? А то пойдем! — Федька хитро моргнул.
— Куда? — буркнул Николай.
— Куда! На кудыкины горы! Ты ничего? Не упадешь по дороге? А то возись с тобой…
— Это ты зря. — Малахов тяжело слез с койки и несколько раз прошелся по комнате. Остановился. — Задышка, черт!
— Кляп с ей, с задышкой, пройдет! — Фролков принес малаховскую одежду, кинул. — Давай быстрей!
Одежда была чисто стиранная, глаженая. Место на пиджаке, куда вошел когда-то кинжал Монаха, аккуратно заштопано. Малахов оделся; Федька оглядел его, крякнул одобрительно:
— Айда на кухню!
Там налил из графина по стопке, выпил свою, не чокаясь. Выпил и Николай.
— Теперь пошли! — хлопнул его по плечу Фролков.
Куда он попал опять? И кто они — люди, к которым он попал, раненный? Кто такой Федька, в конце концов? Душа к нему не лежала, но, что ни говори, он приютил его, помог встать на ноги. Нет, надо все-таки идти, узнать обстановку, в какой оказался. А там уж будет видно. Обратно-то к бродягам он всегда успеет попасть, на это труда не надо. За такими мыслями прятал Николай свою растерянность. В доме явно было что-то неладно, нечисто, но не так-то просто оказалось заставить себя покинуть теплый кров и ласковый уход, променять это снова на неизвестность…
Они вышли. Голова у Малахова кружилась еще, тело было слабым, быстро устающим. Город он знал плохой, как ни приглядывался, не мог определить, где же находится Федькин дом, в какой стороне, каком районе. Они, однако, удалялись от центра — скоро скрылись за деревьями и крышами купола самого высокого в городе Вознесенского собора.
Невыносимый табачный смрад, запах чего-то прокисшего, гвалт и хохот оглушили Малахова в доме, куда привел его Фролков. За дымом, сладким и тошнотным, двигались плохо различаемые люди, ругались, смеялись и плакали. Федька сразу включился в эту таинственную жизнь: кого-то обругал, кому-то подхохотнул, кого-то смазал по уху… Подтащил Николая к корявому, заваленному объедками столу, толкнул на табуретку, сам шлепнулся рядом и заорал:
— Дунька, мать твою растак и распротак! Водки вольным хлибустерам.
Подбежала девка с жирной спиной, в грязном коротком платье, захихикала:
— Придумаите, Федичкя… хлибасьер… ха-ха! И вам доброго здоровьичкя… И где-то я вас видала. Не спомню… — пожеманилась она в сторону Николая.
— Водки! Быс-стр! — крикнул Фролков и с оттяжкой шлепнул девку по заду. Сунул ей несколько бумажек.
Девка, визгнув, убежала. Федька ткнул Малахова под бок, ухмыльнулся:
— Ишь, за «карася» тебя посчитала! А вопче — нравится?
Малахов отрицательно мотнул головой.
— Зря, зря, — скривился Фролков. — Она — мягкая. И живая… — Он загыкал и вдруг вскочил с табуретки, побежал в угол.
Николай огляделся. Народу, в общем, было не так уж много: четыре девки — одна спала на полу, на рогожке, другая хрипела от хохота на коленях огромного парня в тельняшке, и еще две сновали по избе, с криком и матом приставали к мужикам.
Были личности вообще смутные. Так, напротив Малахова, опершись о стену, сидели двое: одноногий мужичок в лохмотьях, страшный и пегий, нищий по виду, и черная, косматая, обезумевшая от алкоголя баба. Перед бабой стояло полштофа — она наливала в кружку и пила, хихикая и трясясь.
— Я богатой, богатой. Бабин моё фамильё… — однотонно бубнил мужик; вдруг спохватывался и тянулся к кружке, вякал: — Дай-дай-дай!
Баба хватала с пола рваную калошу и била ею нищего по голове. Он падал набок, поднимался, и снова: «Я богатой, бога-атой…»