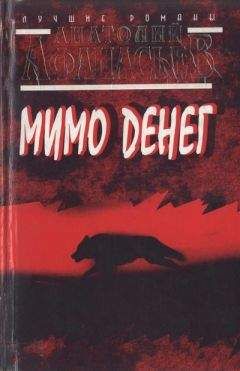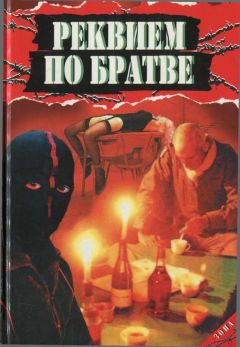Анатолий Афанасьев - Сошел с ума
— Папа, скажи что-нибудь. Ну пожалуйста!
— Да что тут скажешь, — я развел руками.
— Но этого же не может быть!
— Все бывает, дочка. Время глухое. Каждый охотник, каждый норовит кого-то подстрелить. Народ на это и надеется. Вдруг мерзавцы сами переколотят друг дружку. Больше-то не на что надеяться.
— Папочка, у тебя бред?!
— Нет, доченька Я в норме. Хорошо себя чувствую. Ты поспи пока. Утро вечера мудренее…
Не успел договорить, она впрямь задремала. Напряжение ночи, полной кошмара, сломило ее слабые силы. Я погасил свет, вышел в коридор. Навстречу спешила Полина с бумагами в руках. Лицо нервное, пустое. Я посторонился. Прошла мимо, словно не заметив. Да нет, заметила. Улыбнулась краешком губ.
— Осиротели мы, Миша!
— Может, оклемается?
— Вряд ли. Приходи, выпьем чего-нибудь.
И прошелестела, точно ветка сирени. По Олеше, кажется? Еще я мог бы сравнить ее со всеми женщинами, которых знал прежде. Ни одна не годилась ей в подметки. Хотя она была убийцей, как и я.
Я закурил, прислонившись к стене возле двери Трубецкого. Вскоре оттуда появилась Прасковья Тарасовна. В руках эмалированный тазик. Поглядела сочувственно:
— Как дальше будешь жить, Миша?
— Уж немного осталось. Дотяну.
— Пойди попрощайся.
— Думаете, умрет?
— Куда денется. Ему срок короткий был выписан. Не твоя вина. Срок весь вышел.
В багряно-розовой комнате Трубецкой все так же лежал на полу. В ногах, в позе лотоса сидела Лиза. Увидев меня, прижала палец к губам:
— Не тревожьте его, Михаил Ильич.
Самое интересное, у Трубецкого глаза были открыты. Вернее — один левый глаз. Другой затянуло темно-синей блямбой.
Живым глазом смотрел на меня приветливо. Губы зашевелились, прошамкал:
— Некрасивая дырка, да?
— Не разговаривай, — сказал я. — Береги силы. Сейчас врач приедет.
— Я на тебя не обижаюсь, Мишель. Все справедливо. Твой кон.
— Чего обижаться. Я же не нарочно. В горячке.
Улыбка у него была изумительная, безгрешная, с кровяным следком.
— Нагнись, Мишель, чего-то важное скажу по секрету.
Я послушно нагнулся, а этого делать не следовало. Его рука взлетела, как стрела, пальцами ткнулась мне в грудь. Ощущение было такое, будто проткнули вилами. Оступясь, я не удержался на ногах, скользнул на пол. Железный обруч сковал туловище, дыхание застряло в ребрах. Я перхал, хрипел и чувствовал, как глаза вываливаются из орбит. Наверное, это был смертельный удар, но меня спасла Лиза. В последний миг ослабила удар, хлестнув сверху быстрой ладошкой. Трубецкой с любопытством наблюдал за моими мучениями и, когда я чуть-чуть раздышался, огорченно произнес:
— Какой ты живучий однако, Мишель!
Лиза сказала:
— Уходите, Михаил Ильич! Уходите, пожалуйста. Не мешайте умирать. Не тревожьте учителя.
Я попробовал встать, ноги были точно из ваты. Тут в комнату вкатилось существо, напоминающее раздутый дубовый бочонок с черной головкой-затычкой. Если бы встретил этого человека в лесу, решил бы, что это оживший гриб-боровик, но это был врач Григорьев. Он опустился на ковер и поставил рядом кожаный медицинский саквояж. Приник ухом к сердцу Трубецкого. Оттянул веки. Посветил стержнем-фонариком в глаза, поднес к губам зеркальце. Все это проделал, кажется, одновременно. Поднял раздраженный взгляд:
— Братцы мои, да он уже на том свете.
— Нет, — возразил я, — только что разговаривал.
— Так и бывает, — согласился врач. — Кто же это так постарался? Угрохал Эдичку?
— Я.
Врач оглядел меня критически:
— Да нет, дружок, на себя не берите. Вам не по зубам. Впрочем, меня это не касается. Мое дело — оформить отбытие. Утром заберем. Хотелось бы повидать Полину Игнатьевну. Это возможно?
— Я провожу, — со скрипом я, наконец, поднялся. От двери оглянулся. Господи помилуй! Глаза Трубецкого опять были открыты и следили за мной с сухим торжествующим блеском. Меня вынесло из комнаты волной ужаса. Кругленький врач семенил рядом.
— Вы кто же будете, милейший? Что-то я вас раньше никогда не встречал.
— И не могли встретить. Я тут новенький.
В спальне Полины он пробыл минут пять, я ожидал в коридоре. Вышел еще более раздраженный, чем вошел. На меня взглянул косо:
— Еще чего! — буркнул злобно. — Я в конце концов тоже живой человек, верно?
— Намного живее Трубецкого, — подтвердил я.
Полина сидела за столиком со своим любимым телефоном. Не соврала: припасла коньяк и даже закуску. Я с разгону хлобыстнул полстакана. Пухлые губы Полины скривились в улыбке, почти соболезнующей. Видимо, наступила минута хоть как-то объясниться.
— Он глумился над ней, Поля. Девочка страдала. Какой-никакой я все же отец.
— Тебе нет необходимости оправдываться… Тем более передо мной… Но ты ошибаешься. Эдичка никогда ни над кем не глумился. Ты просто не смог его понять. Он жил сердцем, не умом. И женщин знал, прости, лучше тебя. Тебе могло показаться, что он глумится. На самом деле он твоей дочери угождал.
— Он бил ее, мучил!
— Значит, ей так было нужно. Именно это. Боль, любовное страдание, полное подчинение силе. Подумай хорошенько, разве иначе она могла в него влюбиться? До беспамятства влюбиться. Эдичка гениальный дамский угодник. Но еще — он был герой. Ты просто не понял.
Я знал, про что она говорит, но не знал, почему просвещает именно меня. Я бы тоже мог прочитать ей небольшую лекцию по сексопатологии, но Трубецкой был нахрапистым хищным зверем, а Катенька была моей дочерью, которая до девяти лет боялась оставаться в комнате одна.
Полина легко, привычно разгадала мои мысли, словно я их высказал вслух.
— Хорошо, Миша, ты тоже прав. Мы оба устали, давай ложиться. Только запомни одно — тебе станет легче. Не ты убил Эдичку, ему самому так захотелось. Он тебе поддался. И еще. Почему не спросишь, что я чувствую? Тебе неинтересно?
— Что ты чувствуешь?
— Мир опустел, — произнесла она будничным тоном. — Эдички больше нет.
33. ПОЛИНА
Она была такой же мне женой, как я ей мужем. Затянулся призрачный роман. Даже нелепая смерть Трубецкого поставила в нем только запятую, не точку. Точку должен был поставить чей-то кулак или пуля.
Я был к этому готов, но окончательный расчет, видимо, откладывался по непонятным причинам. Никто, даже хмурый Витек, хотя и косился, слова дурного не сказал. Можно было подумать, что ничего не произошло, а если кого-то запихнули в мешке в закрытый фургон и вывезли в неизвестном направлении двое здоровенных битюгов, то это всего лишь будничная подробность обыкновенного распорядка дня. Бледная Катя выглянула в окошко, помахала вслед фургону ручкой. Прасковья Тарасовна у ворот истово крестилась. Витек азартно колол дрова. Мариночка тянула за руку:
— Дядя Миша! Дядя Миша, пойдем качнемся разок!
Полина вообще не вышла проводить усопшего… любовника? побратима? подельщика? Все утро просидела, прикованная к телефону. Только пес Нурек, почуяв неладное, попытался прокусить у фургона колесо, но ему это не удалось. Один из битюгов угостил вопящую собачку пряником. Из вежливости Нурек подержал гостинец в зубах, но тут же выплюнул.
К вечеру и мы трое, Полина, Мариночка и я, тронулись в путь. За баранкой Витек, позади «тойота» сопровождения, набитая под крышку дюжими телохранителями. Не было и речи о том, куда едем и почему я оказался в этой машине, а не лежу, скажем, на полу зеленого фургона рядом с Трубецким. Об этом знала Полина, но молчала. У меня не было ни документов, ни денег и никаких вещей, кроме тех, что на мне. Ночью Полина тоже молчала, хотя мы оба не спали. Так, пролежали в каком-то смутном забытьи, изредка переворачиваясь с боку на бок. Прощание бывает всяким, бывает и таким.
Если, конечно, не упомянуть об одной незначительной детали. Где-то уже под утро Полина невзначай отдалась мне. Впрочем, громко сказано — отдалась. Скорее всего с ней случился маленький, невинный сексуальный каприз. В какую-то паузу бессмысленного дремотного бдения она вдруг оказалась сверху, приникла грудью, горячо задышала, повертелась, пристраиваясь ловчее, оседлала — и мгновенно облегчилась. Я-то сам и пикнуть не успел. То ли изнасиловала, то ли что-то хотела внушить.
Аэродром в Жуковском, в зеленой тине обводных каналов, как неприметное окошечко в недалекое прошлое, когда страна питалась не одним только западным гнильем. Когда летала в космос, копила золотишко, растила хлеб, рожала глубокомысленных сыновей и пугала мир нацеленными во все стороны ядерными пушками.
Приземистые ангары, словно ящеры, выползшие из глуби веков, стремительные ленты взлетных полос, блестящие лепешки локаторов, фантастическая мозаика бетонных заборов, проводов, железных надолбов, колючей проволоки и гудящих турбин. Вызов Всевышнему на шоколадной щеке земли. Много самолетов и мало людей.