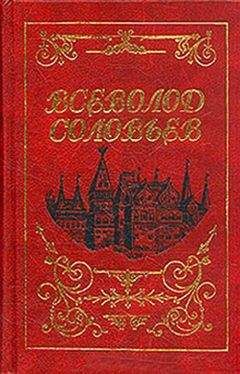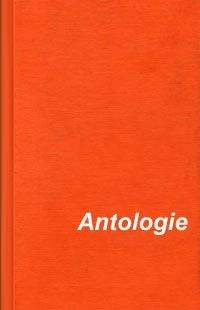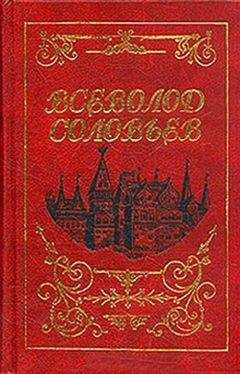Антон Французов - Нешкольный дневник
Гриб запыхтел с удвоенной энергией, потому что у него, видно, подступило… он стал прихватывать меня за горло, захват не давал мне возможности нормально дышать. Катя, которая продолжала лизать головку моего члена, время от времени прихватывая его в кольцо своих губ, как-то странно искривилась в этот момент, по-лягушачьи подтянула ноги к себе и, извернувшись, вдруг издала клокочущий звук., ее стошнило прямо на ковер у моих ног. Хомяк, не переставая вгонять в нее свой штырь, дико выругался и, задергавшись, буквально смахнул ее со стола на пол. Его задергало, и он кончил прямо на стол, а потом опустился на колени рядом с упавшей Катей и стал вытирать сперму о ее лицо. Она дергалась как в припадке эпилепсии. Хомяк вытерся, откинулся на ковер, Гриб прихватил меня за горло с такой силой, что я понял: еще несколько секунд такого захвата — и я труп. Отвращение, которого я давно не испытывал, начало высвобождаться стремительно… я с силой оттолкнул Гриба, он дико заорал, что-то хрустнуло, и Гриб с окровавленным членом упал на кресло, спиной на подлокотник Ватная слабость ударила мне в ноги, но было тепло от ярости. Многолетняя привычка, созданная профессионализмом, не позволяет выплескивать негатив в отношении клиента, к тому же с такими бабками. Но я ударил его. Это ответ, получи, нелюдь. Удар Гриба еще отдавался уныло и гулко в нижней челюсти, когда его собственная челюсть приняла ответ.
Кость хрустнула, как попавшая под ногу сухая веточка.
До меня донесся вопль Хомяка:
— Ленивая сука!! Ты, бля, шалава неблагодарная! Не понимаешь человеческого обращения! Я тебя в жизнь ввел, тварь, ты теперь как сыр в масле катаешься… толком отсосать не можешь, курррва! Я тебе сейча…
И — замолк. Услышал, увидел, что в двух метрах от него случилось.
Я повернулся и увидел Хомяка, ошеломленно глядящего на меня. Нет, он не ожидал от меня, что я для него? Жалкий эскор-тник, бывший сутер, а теперь всеядная давалка — что он мог ожидать от меня? Ну уж, верно, никак не того, что я размажу по полу его долбаного Гриба, здоровенного охранника с садистскими наклонностями. Который к тому же возбуждался от асфиксии.
Хомяк смотрел…
Как стоп-кадр. Снова замерло все до рассвета. Я не мог видеть всего разом, глаза просто не в состоянии охватить пространство и за спиной, и передо мной, но я ясно видел корчившегося от боли, зажавшего лицо Гриба, по ногам — кровь… Хомяка, развалившего лицо в недоуменном оскале, ноги нелепо подогнуты и живот подрагивает, как трубка, подключенная к кардиостимулятору… Катю, опершуюся локтем на пол и державшую в руке конфету в ярко-оранжевой обертке, тонкие пальцы словно сведены судорогой, и у меня, не самого слезливого и чувствительного человека, слезы наворачиваются на глаза, когда я это вспоминаю. Эта секунда — поворотное мгновение, после которого жертвы становятся палачами. Это в тот вечер, уже стоя на обляпанном кровью пороге, Катя пробормотала слова своего очередного поэта: «…ни жертвой быть, ни палачом…»
Хомяк хрипло выговорил:
— Ах ты… козел! Ты теперь знаешь, падаль, что с тобой будет? Ты, тварь, на мокруху…
И почему-то остановился.
— Между прочим, — отчеканивая каждое слово, сказал я, и это принесло мне опасное, острое, пряное наслаждение, — Костю-Мефодия убил тоже я. Вот так, жирная жаба.
Он повторно пропыхтел о том: дескать, я не имею понятия о чудовищности того, что со мной будет и как меня будут рвачч., но я ответил:
— Ну уж не хуже, чем с тобой случится сейчас.
Я сказал это, а потом схватил с камина большую бронзовую пепельницу в виде старинного парусника, килограмма на три, очень хорошую копию кстати. Фок-мачта, грот-мачта, бизань-мачта, паруса из фольги, металлические снасти… я в детстве увлекался моделями судов, тренер по плаванию, Павел Сер-геич, мне об этом много рассказывал, в голове до сих пор, как шелуха от семечек, нет, скорее как звонкие опилки: кливер, фор-марсель, мартин-гик, форштевень… бом-блинда-рей-топенант.
Хомяк вскинулся мне навстречу, поднимая руку, тяжеленный макет корабля влепился ему в лицо. И не упал на пол. Словно примагнитился. Неудивительно: грот-мачта, средняя, вошла ему в правый глаз, паруса бизани вспороли ухо, а еще одна мачта сломалась, рассадив надбровную дугу. Хомяк проклокотал что-то, вскинул руки к горлу и, дернувшись, упал. На колени. Живот его ходил, как батут. Катя приподнялась с ковра и, взяв со столика хрустальную вазу с конфетами — теми самыми, в оранжевых обертках, — начала методично бить по голове Хомяка. Удары глухие, страшные, безответные. Она, верно, слабо сознавала, что делает. Потом села и стала есть конфеты. Я взял хомя-ковский пистолет и выстрелил в голову дергающегося от боли Гриба. Хомяк уже затих, я и стрелять в него не стал: от таких ранений, какие причинила ему пепельница, не выживают.
— Одевайся, — сказал я Кате. — Хреновы наши дела, дорогая моя, так что быстрее давай.
Она как будто не понимала меня, что-то бормотала и улыбалась, словно слабоумная, но нижнее белье, разбросанное по комнате, стала подбирать и надевать. Я подумал, что, верно, тут полно отпечатков наших пальцев. Я позже это подумал, когда мы уже оставили квартиру Хомяка. А тогда, на месте, между двух трупов, я сидел, раскачиваясь взад-вперед, как свихнувшийся гуру, и напевал под нос, кажется: «Привет — привет… пока — пока. Я очень буду ждать звонка». Затмение было недолгим, мы ушли с этой квартиры, и только несколько дней спустя ко мне пришло, наверно, самое жуткое чувство, которое может быть у человека, убившего другого человека: удовлетворение от содеянного. Я даже не гнал от себя это чувство, я знал, что так и должно быть. Страшно, но — должно. Не знаю, что чувствовала Катя, я пытался у нее выяснить, у нее было белое лицо, и она утверждала, что именно она швырнула в Хомяка этим кораблем. Я говорил — нет, — ты била его по голове вазой, но она только качала головой и тускло улыбалась.
Ах да, забыл сказать. Я все-таки ограбил Хомяка. Да. Я взял у него тот корабль, которым я его убил. Я спрятал его, этот корабль, в дупле старого дуба, который в нескольких метрах от моего окна в коттедже Ароновны. Туда же я спрятал и пистолет Хомяка, из которого был добит Гриб. Да, это опасно, что корабль рядом, в дупле дуба, я знал, конечно. Но только странное, сравнимое с мазохистским кайфом от ковыряния в собственной ране ощущение не давало мне избавиться от этого веского — три килограмма, ах! — доказательства моей виновности.
Последняя весна
Наверно, так и должно быть, что все закончилось не осенью, естественным вечером года, когда все живое застывает от неотвратимого и невыразимого предчувствия, когда в воздухе, хромая, ковыляют и приникают к асфальту листья. Когда все знают: так надо. Осенью умирает все. А умирать весной противоестественно и нелепо, потому что не бывает весеннего листопада. С годами я впадаю в сентиментальность, особенно когда выпью… дрожит рука, и мир тонкой ниточкой дрожит и истлевает перед глазами. Ломаются в пруду черные деревья, наползает холод и усталость, она почему-то сильнее всего по утрам, когда выспишься. И парижская осень, вот здесь и сейчас, всюду вокруг меня, сильнее всего напоминает о яркой весне в России. Последней весне. Холодеют, костенеют пальцы, когда я набиваю на клавиатуре вот это. Наверно, неестественно отдавать себя машине, но я всю жизнь только тем и занимался, что отдавал себя и других, вверенных мне, отдавал за деньги.
Март того последнего для меня года в России выдался страшным. Заговорили ручьи, высыпали трупные пятна на полосах чернеющего, корчившегося по обочинам дорог снега. Я сижу у окна коттеджа Ароновны и мучительно размышляю о том, сколько мне еще осталось жить.
Положение создалось отчаянное. Нас пасли. Нас пасли жестоко, упорно, и менты, и славянская братва, организация «Ромео и Джульетта» изживала себя на глазах. Слишком много осталось следов за последние три года, слишком много. Уже и девочки из досугового центра, не Мила, и не Ира Куделина, и не Катя, все сплошь знающие о многом из того, чем мы занимались… а даже те, кто только догадывался, смотрели на нас косо. Связь с отморозком Шароевым висела тяжелым грузом. Наверно, как я, так чувствовала себя Муму, когда ее топили. Я думал о том, что Нина Ароновна может нас сдать.
Наверно, за эти годы у меня выработалась способность, которая от рождения бывает, скажем, у волка: он чувствует погоню. Чувствует травлю. Вот и я — у меня, как привкус крови на губах, тлеет предчувствие. Пора сваливать, пора сваливать, кололо в висках, и я думал, что, наверно, заразился этой нервозностью от Кати.
О Кате. В те последние месяцы мне было нестерпимо жаль ее. Она сказала, что меня любит, сказала, когда была под наркотой, но я поверил. Правда, правда любила — чуть не написал: любит. Она, конечно, прекрасно знала, что я сплю с Ароновной, потому что об этом в принципе знали все. Еще бы, я слышал, что в коридоре девчонки сплетничали по поводу поз, которыми я с Ароновной пользуюсь. А какие там могут быть позы, если она за те четыре без малого года, сколько я ее знаю, дико разжирела. Корова просто стала, сиськи до пупка висели. И астма ее трахала похлеще меня — задыхалась она. Так что насчет поз был полный гниляк рабоче-крестьянская, она же классическая, она же — баба снизу, ноги врозь, мужик ковыряется сверху. Вот у меня с Ароновной так и было. Жалко только, что мозги у нее жиром не заплыли. Хотелось бы, чтобы у нее этой хитрости и черной злобы поубавилось. Я подозревал, что некоторых из своих девчонок она нарочно под «прием» подставляла, как отработанный материал кидала: ебите, звери.