Леонид Словин - Такая работа. Задержать на рассвете
Он пьет жадно, словно исстрадавшись от жажды, и прозрачные капли остаются на губах. Бессознательно, обыденным жестом человек смазывает их на ладонь.
Как просто сейчас Гаршину забыть обо всем, пожалеть, простить! Как приятно сознавать себя великодушным, большим, незлопамятным!
Но в то же время во много раз благороднее, хоть и тяжелее, ничего не забывая и ни о чем не умалчивая, помочь этому человеку одолеть все трудности сознанием безграничности своих душевных сил.
…Кокурин ставит стакан на место и благодарит Гаршина.
Гаршин не думал о том, с чего он начнет разговор с Кокуриным: у каждого следователя в общем-то одна манера допроса, хотя ему и кажется, что он ее меняет в зависимости от характера допрашиваемого.
Кокурин был еще слишком ошеломлен своим арестом: ни о чем не жалел, не думал о том, что ждало его впереди, а просто смотрел на следователя.
— У вас Веренич был? — спросил Гаршин сразу, чтобы Кокурин не подумал, что ему, Гаршину, необходимо что-то выпытывать. — Алька?
— Был, — Кокурин вздохнул.
— По-моему, хороший парнишка. Во всяком случае, он ценит сделанное ему добро. Ну ладно. Собственно, о вашей жизни я знаю почти все. Скажите, как вы встретились с Василием Васильевичем, с бригадиром?
— Да так… Случайно помог ему… Потом неделю полежал у него дома с сотрясением мозга. Делать нечего было, лежал и думал обо всем… Конечно, сейчас, когда я арестован, вы мне верить не можете: мало ли что я расскажу? Но я много раз хотел прийти к вам с повинной. Подходил даже к горотделу милиции… А потом: «Еще месяц», «До весны», «До зимы» — и оправдание было: арестуют — подведу бригаду!
Кокурин сначала говорил медленно и спокойно, а потом все быстрее и взволнованнее.
— А когда Алька передал слова матери, понял: «Все! Надо идти, хватит!» Написал я письма, — продолжал Кокурин, — одно Василию Васильевичу, другое Ольге… Это его дочь.
— Где сейчас эти письма?
— Их взял сотрудник, который меня арестовал, такой высокий, вежливый, в очках. Он еще перед тем, как закурить, у Ольги разрешения спрашивал…
Где-то здесь, в быстром поверхностном разговоре подследственного со следователем, та же опасность— с одной стороны, нельзя было прервать Кокурина грубым напоминанием о преступлении, а с другой стороны, ни из каких понятных человеческих чувств нельзя было умолчать об этом, чтобы у Кокурина не создалось впечатление о том, что в душе Гаршин оправдывает его побег из тюрьмы или находит для него смягчающие мотивы.
— Вы обжаловали последний приговор суда? — спросил Гаршин.
— Приговор был справедлив. Да ведь ясно: новую жизнь с побега не начнешь!
— Да, вам придется начинать сначала.
Гаршин почувствовал себя спокойнее: он не обманывал ни себя, ни Кокурина.
— Понимаю. Я к матери не приходил. Считал, что она меня давно уже похоронила. Ну, а если она и помнила, то что я мог ей сказать? Что меня ищут? Что я скрываюсь? Она и сама это знает. С самого детства я причинял ей только горе…
— Я дам вам свидание с матерью… И с Алькой тоже.
Рассказ Кокурина о жизни в Остромске был сбивчив: он словно радовался освобождению из темницы, в которую сам заключил себя когда-то своим побегом. Решетки этой темницы были невидимыми для окружающих, но для него они не становились от этого менее прочными и тягостными. Кокурин носил их в себе ежедневно и ежечасно все эти годы — на работе и дома, встречаясь с людьми, не радуясь ничему, постоянно ощущая их холодную отрезвляющую сталь.
Гаршин старался осторожно поддержать в Кокурине этот душевный настрой.
— Разрешите, я вас спрошу, — Кокурин помедлил. — Зачем понадобилось впутывать в эту историю Альку, мою мать? Вы ведь могли меня просто арестовать!
Гаршин не сказал надменно: «Здесь вопросы задаю я!», как это иногда позволяют себе некоторые следователи, или: «Здесь вопросы задаем мы!» — что звучит еще внушительнее. Майор серьезно и просто рассказал Кокурину о том, что произошло с того дня, когда Алька на улице случайно познакомился с Налегиным.
Гаршин считал, что именно следователь должен первым подавать на допросах пример искренности, доверия и честности и без нужды не окутывать свои поступки туманом таинственности.
Глава 15. Встреча однокурсников
Посредине невысокого, ярко освещенного зала лежала широкая ковровая дорожка, а по обеим сторонам ее стояли столики. В дальнем углу зала, как на другой стороне площади, сверкал никелем буфет. На низкой эстраде шептались оркестранты, готовясь к выступлению.
— Сюда, — сказал Мамонов. Он поздоровался с молоденькой официанткой и свернул в боковой кабинет. У Налегина тревожно и зябко дрогнуло сердце.
В комнате было много людей. Едва Мамонов и Налегин показались в дверях, поднялся шум:
— У-у!
— Привет! Салют!
— Славик! Кого я вижу?!
Не менее десятка голосов одновременно спрашивали, отвечали, смеялись.
— Тихо! — едва все уселись, прорвался вдруг сквозь этот шум громкий строгий голос. — Иначе публика будет удалена из зала! Все явились? Стороны в процессе? Представители истцов? Следователи? Уголовный розыск? — Тамада, бывший староста группы, а теперь заместитель председателя областного суда, поднялся, нетерпеливо постукивая ложечкой по фужеру. — Отводы к председательствующему имеются?
— Все здесь, — ответил в наступившей тишине бывший комсорг группы Женька Мамонов, — отводов не имеем.
— На зарубку становись!
Все встали. Когда-то, на целине, они установили торжественный ритуал — в конце каждого дня на шесте в самой большой палатке их лагеря делалась зарубка.
— За дружбу!
Второй тост тоже был за дружбу, за старых друзей. За профессорский состав, за Гаршина, за студенчество, за альма матер — Остромский юридический институт.
В комнате стало жарко, пришлось открыть окна.
— А ты помнишь, как Тырнов принимал у нас экзамены? В носках!
— Где сейчас Вовка Хазан?
— Федя в Сирии! С Нинкой Зайцевой.
Первоначальный порядок, в котором сидели за столом, быстро изменился: расположились, как раньше на лекциях, только долго не собиравшиеся вместе партнеры по «Морскому бою» не подсчитывали потопленные корабли, а рассказывали друг другу об удачных арбитражных схватках, цитировали на память основные условия поставки.
— А я на работу заезжал, — поигрывая пустым бокалом, сказал Налегину Шубин, молча сидевший напротив. Он не принимал участия в воспоминаниях, потому что всегда держался в стороне от своей учебной группы.
Спартак загадочно улыбнулся. Чувствовалось, что ему не терпится поделиться с Налегиным какой-то новостью.
— Что-нибудь случилось?
— Нет. Ничего не случилось, — он снял очки и долго их протирал, — Кокурина задержали.
— Как задержали? Кто?
— Я задержал. Получил о нем данные и задержал.
— А Гаршин в курсе дела? Ведь Кокурина не следовало задерживать до завтрашнего дня.
— Да? А кто об этом знал? — Шубин пьяно засмеялся. — В плане стоит: «активизировать розыск». Я активизировал. А оказывается, этого делать не надо было! — Он шутовски всплеснул руками. — Ну, тогда извините. Не угодил. Я человек такой: мне говорят: «Найди преступницу, сбывавшую драгоценности Ветланиной!» Я нашел. «Разыщи скрывающегося Кокурина!» Я разыскал. Высокие материи меня не интересуют. Я их оставляю другим. Которым больше ничего не остается.
Кто-то дернул Налегина за рукав.
— Кто этот Кокурин? И вообще, Славка, стоит ли его сегодня вспоминать?
— Бывший преступник. Он бежал из тюрьмы, попал под влияние хорошего человека и несколько лет честно работал. Мы хотели дать ему возможность прийти с повинной…
Постепенно Налегин восстановил в памяти события последних часов: приход Юного Друга Шубина, ожидание под дверью, скрип половиц, «Если что-нибудь интересное будет — сразу ко мне!».
— Ты знал, что Кокурина решили не арестовывать! А данные свои ты получил из-под двери кабинета!
Шубин не смутился.
— Вот тут уж ты меня извини, Налегин. Откуда узнал? Я тебя о таких вещах не спрашиваю и тебе отчет давать не буду.
Оба не замечали, как вокруг них умолкли разговоры и уже весь стол прислушивается к спору.
— Зачем ты это сделал?
— Кокурин в первую очередь преступник! К чему сантименты разводить?
— Жить-то ему после отбытия наказания опять в обществе!
— Ты, Шубин, недооцениваешь роль нашей действительности в перевоспитании характеров, — вмешался судья. — Если в повседневной жизни не видеть этой силы, то…
— Мы часто привлекаем целые теории для оправдания таких поступков, которые совершены под влиянием личных и часто довольно низменных мотивов, — язвительно сказал кто-то с другой стороны стола.

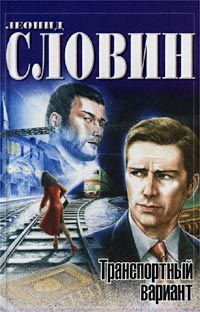
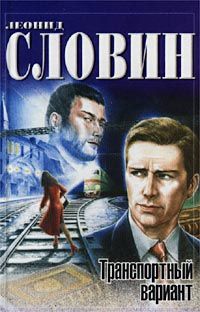
![Леонид Словин - Астраханский вокзал [сборник]](/uploads/posts/books/242731/242731.jpg)
