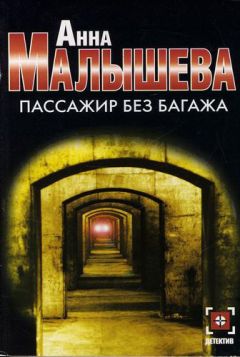При попытке выйти замуж - Малышева Анна Жановна
Но сегодняшний день — особый. Сегодня здесь своих гораздо больше, чем чужих. И сегодня мы ГЛАВНЕЕ. Штатные сотрудники «Новостей» пугливо жмутся к стенам, стараются не заходить в отделы, где пируют «бывшие», и угодливо резервируют за прежними обитателями редакции самые лучшие места в Голубом зале. Вот оно — торжество справедливости! Да-а, с годами я, определенно, озверела. А была ведь хорошей девочкой, самой сентиментальной в «Новостях».
Проходя мимо литературного отдела, я вспомнила Катьку Лобанову — она по линии комитета комсомола отвечала за шефские связи редакции с детским домом и совершенно доконала меня однажды, когда организовала в Голубом зале концерт детишек из этого детского дома. Катька бегала по отделам и говорила: «Вы уж приходите, дети специальную программу для вас приготовили. Приходите, не будьте скотами». Надо отдать должное коллегам, пришли все, даже те, кто дежурил по номеру. Меня развезло сразу. Дети пели, танцевали, показывали сценки из русских народных сказок. Но когда они запели финальную песенку «О маме», силы меня окончательно покинули. Я рыдала, уткнувшись в спину Сережи Лескова, спецкора из отдела науки, а он мужественно прикрывал меня своим телом.
Мне было ужасно стыдно перед Сережей — слезы я проливала обильные, женские, и рубашка на спине Лескова была мокрая насквозь. И ладно бы только мокрая! В то время, в силу незначительного размера моей зарплаты, я пользовалась отечественной тушью для ресниц, так что Сережина спина покрылась отвратительными черными разводами. И до вечера ему пришлось терпеть бесконечное «Мужчина, у вас вся спина черная» чуть ли не от каждого встречного. Но он на меня не только не рассердился, а еще и поил меня чаем, гладил по голове и успокаивал.
Ни Катька Лобанова, ни Сережа Лесков в «Новостях» давно не работают, на их местах сидят бойкие пробивные мальчики и девочки, занятые только собой и зацикленные на деньгах. Тьфу, опять я по-старчески бубню.
Я заглянула в Голубой зал и поняла, что опоздала. Все места были заняты, более того, люди сидели и на подоконниках, и на полу. Жаль. Разыгрывалась сценка приезда Д’Артаньяна в Париж. Незнакомый мне молодой человек, видимо «из нынешних», одетый в широченные атласные шаровары, косоворотку, сапоги-«казаки» и широкополую мушкетерскую шляпу, из-под которой выбивался пышный поролоновый чуб, пытался запрыгнуть на спину Игоря Суханова. Тот стоял на четвереньках, активно вилял задом и злобно скалил зубы. Похож он при этом был не на лошадь, а, скорее, на гиену.
— Шо це за кинь така! — орал Д’Артаньян. — Стий смирно, я сказав! Чахлик невмерущий, сдыхлик поганый!
Рядом со мной захохотал какой-то мужик и, по-свойски ткнув меня локтем в бок, пояснил:
— Чахлик невмерущий — это по-ихнему Кощей Бессмертный.
На него зашикали, он виновато замолчал и уставился на «сцену». Атам на стремянке, под которой, скорее всего, подразумевался балкон, стояла всклокоченная девушка в отвратительном, модели «Том Клайм», розовом костюме и в национальном венке с разноцветными лентами и мерзко хихикала.
— Вин хасконец, — тыкала она пальцем в Д’Артаньяна, — умора, да и тильки.
Рядом с ней, развалясь, стоял странный тип с огромными буденновскими усами, но маленькой бородкой клинышком — не иначе граф Рошфор, и тоже смеялся:
— Тю, Миледи! — кричал он. — Яки гарни хлопцы наши мужкетэры!
— Шо ты гонэшь?! — грозно закричал ему мушкетер и выхватил шпагу. — Москаль поганый! Мени на-брыдло.
Смотреть «капустник», стоя в дверях, мне не хотелось, и я решила не смотреть его вовсе. Заглянув в свой родной, в прошлом «отдел комсомольской жизни», а сейчас, само собой, «социальных проблем», я убедилась, что не одна я такая умная. В отделе заседала уже теплая компания «бывших», которые встретили меня дружным приветственным криком.
— Шла Шаша по шоссе и шошала шушку, — поздоровался со мной Миша Форин, бывший спецкор отдела международной жизни. — Нет, не так: ела Саса по соссе и сосала суску.
— Куда идешь? Чего несешь? — ласково спросил Никита Демидов по прозвищу Никита Семенович Навынос — бывший корреспондент бывшего рабочего отдела.
— К вам иду, — честно сказала я. — Собаку несу. Порода редкая, дорогая. Зовут Георгин. Убедительно прошу его не спаивать и не учить курить. Он еще маленький.
— А когда же он научится все это делать? — Никита изумленно развел руками. — Когда вырастет — будет поздно. Вот мы — если бы в детстве не научились пить и курить…
— …и говорить, — подсказал Форин.
— …сейчас и браться бы не стали. Страшно подумать! — Никита перегнулся через стол и чмокнул меня в щеку. — Здравствуй, солнце мое, чур со мной сидеть будешь.
— Сидеть она будет с Георгином, — возразил Форин, — тебе же сказано — сегодня к Сане не приставать, у нее в кармане злая собака.
— Не верите? — Я злорадно усмехнулась. — Смотрите.
Расстегнув «молнию» на сумке, я выставила щенка на всеобщее обозрение:
— Убедились?
Щенок перешагнул край сумки и выполз на стол. Ноги у него разъехались, и Георгин с громким чмокающим звуком плюхнулся на пузо. Получилось эффектно. Все заверещали, заохали, бросились его гладить и целовать (прав был Степаныч).
— Закройте форточку! — кричала Маша Хазина, бывшая спецкорша отдела морали. — Ему надует! И не курите — он задохнется.
— А ушки, ушки какие плюшевые, — умилялась Таня Волкова, бывшая секретарша отдела общества, — ты лапочка моя, ты лапусечка.
Мужчины вели себя сдержаннее, но тоже были определенно растроганы. Что лишний раз доказывало — на любую циничную аудиторию можно найти сентиментальную управу. Хлынувшая из их прожженных сердец доброта затопила все помещение, что привело к решительному массовому отказу переместиться в Голубой зал и посмотреть-таки «капустник». Что нам — здесь плохо? У нас тут такая заечка пушистая, такие лапки-хвостики.
Но — ничто не вечно, особенно ничто хорошее. Сентиментальная буря мгновенно улеглась, как только я щедро предложила коллегам, то есть кому-нибудь из них, взять собачку себе. Лица посуровели, глаза спрятались, и полились воспоминания о мамах и женах, ненавидящих животных; о мужьях и детях, у которых аллергия на шерсть.
— Не боись, — утешил меня Форин, — должен же найтись здесь хоть один добрый человек.
И, взяв щенка под мышку, он отправился по отделам.
— Какой пупсик! — неслось из дверей, но чуть позже из этих же дверей появлялся Форин, и выражение его лица недвусмысленно показывало — добрых людей здесь нет и быть не может. Это — редакция газеты, так что разговор о духовном и человеческом неуместен.
Вернувшись в отдел с поджатым хвостом, Форин мрачно предложил выпить за то, чтоб они все сдохли. Тост был признан правомерным, и мы выпили. Потом все дружно кормили шенка. К ужину Никита Демидов, наплевав на мой запрет, любовно налил ему в блюдце водочки, но Георгин оказался непьющим, чем чрезвычайно Никиту огорчил.
— Почему не пьешь, Гоша? — обиженно спрашивал Никита. — Хорошая, кристалловская. Попробуй.
Потом мы душевно так посидели, повспоминали, погрустили.
— Помнишь, Машка, — расслабленно, но торжественно вещал Форин, обращаясь к Хазиной, — помнишь, как мы учились с тобой в школе юного журналиста?
— Молчи, гад, — кричала Маша, — молчи, ни слова больше!
Форин не слышал:
— Было это, Машка, семнадцать лет назад. Мне тогда было шестнадцать, но ты-то, ты-то — старше.
— Молчи, зараза! — кричала Маша. — Убью!
— Нет, Маш, — подхватывал Никита, — для своих преклонных лет ты очень даже ничего. Только толстая, и одета плохо.
— Это невыносимо! — Маша расстроенно выпивала и грозила: — Грубые вы, уйду я от вас.
— Машка, а ты помнишь?.. — говорящего Форина могла остановить только залетная пуля.
— Нет. Ничего не помню, — пыталась прекратить этот беспредел Хазина. — И тебе не советую. Последний раз предупреждаю: еще одно такое воспоминание — глаза выцарапаю.
— Понял. — Форин переключался на Таню Волкову. — Танька, а ты помнишь?