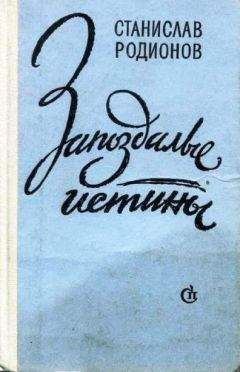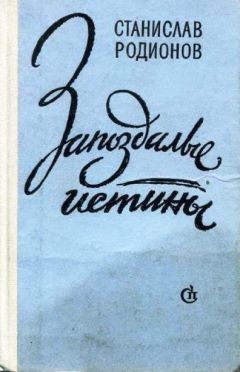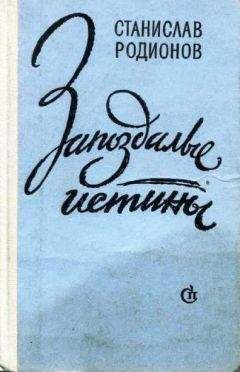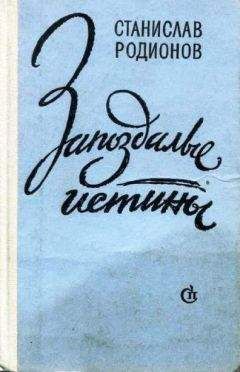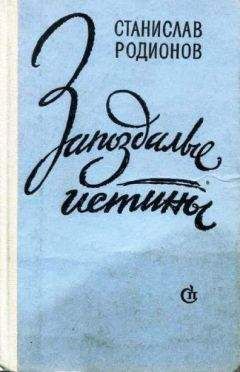Станислав Родионов - Мышиное счастье
— Тогда перейдём к делу, — жёстким голосом Рябинин отстранил всякие необязательные разговоры. — На месте сваленного хлеба нашли отпечатки колёса вашего самосвала. Вы человек судимый, в доказательствах разбираетесь… Так будете говорить?
Башаев удивлённо и шумно вобрал воздух носом. И держал его в груди, боясь выпустить, — иначе бы пришлось сразу отвечать на вопрос.
— Чего говорить-то?
— Хлеб в болото свалили?
— Свалил. Так ведь горелый.
— Кто приказывал вывозить?
— Никто.
— Как никто?
— А никто, сам.
— Где же его брали?
— Во дворе завода, у вкусового склада. Найду кучу да и вывезу.
— Неправда.
— Я могу и тое местечко указать.
— Хотите кого-то выгородить?
— Неужель хочу кого заложить? — откровенно вскинулся шофёр. Он легко признался в том, что доказано, и век не признается в том, что ещё нужно доказать. Рябинин смотрел в его кирпичное лицо; смотрел в глаза, в которых всё заметнее сказывалось нетерпение и жажда; смотрел на хорошие волосы, почему-то не задетые ни годами, ни алкоголем, — и думал, что этого человека ничем не тронешь, кроме денег и бутылки. Нет, перед ним был не организатор, не главный преступник.
— Сколько машин вывезли?
— Не считал.
— Какое вам дело до этого хлеба? Почему вы взялись его вывозить?
— А чистота двора на мне лежит.
— Башаев, ведь дело уголовное, подсудное… А вы кого-то выгораживаете.
— Зря стращаете. Горелый хлеб вывезти — что кучу мусора свалить.
Рябинин прикрыл глаза и медленно вдохнул через нос, как и этот Башаев. Оказывается, успокаивает. Сколько раз он собирался припасти коробочку каких-нибудь слабеньких таблеток, какой-нибудь травки, способной утихомирить гулкое сердце.
Есть много выражений типа «скажи, мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Я бы добавил… «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». А вернее — «скажи мне, что ты не ешь хлеба, и я скажу, кто ты». Ну, если и не скажу, то уж сомнения у меня затлеют. Человек не любит хлеба… А что он любит? Пирожные? Не любить хлеб — значит, не любить полей, неба, простора… Не любить хлеба — это не любить своей родины.
Умные и сильные машины свободно месили многопудовые горы теста, умные и раскалённые машины выдавали из своего нутра раскалённые батоны, умные и деловитые транспортёры везли загорелые буханки… Всё гудело, шумело и двигалось. Сновали девушки в белых халатах и белых колпаках. Куда-то беспрерывно отлучался инспектор…
Но Рябинин всё это воспринимал каким-то свободным краем мозга — остальное сознание заволокло запахом свежевыпеченного хлеба, который щемящей болью лёг на сердце. Что с ним?
Память, возбуждённая заветным запахом, вдруг соединила напрямую этот день с днями детства, словно меж ними ничего и не было…
Стакан свекольного чая. Порция песку, выданная в школе, воздушная, как порошок аспирина. И пятьдесят граммов хлеба, которые он крошил в чай и разминал ложкой. И молчаливая клятва: когда кончится война, когда он вырастет, то всю жизнь будет есть только вот такой хлебный супчик, потому что ничего вкуснее быть не может.
Боже, попасть на такой хлебозавод в войну… Попасть бы сюда матери — ведь одной буханки хватило бы сохранить её жизнь. Да и были ли в войну такие хлебозаводы?
— Неужели мы столько съедаем? — восхитился Петельников.
— Вадим, я вот кончил университет, прочёл уйму книг, вроде бы знаю жизнь… Но после военного голода во мне сидит тайная мысль, что живём мы ради еды. Чтобы есть, есть и есть.
Но инспектор был тут, в настоящем:
— Сергей, ты ведь психолог… Сколько лет вон тому мужику?
Меж агрегатов рассеянно прохаживался низкорослый мужчина в сером костюме и наброшенном на плечи халате. По облысевшей голове, одутловатому лицу и полной фигуре Рябинин определил:
— Лет пятьдесят пять.
— Сорок. А какое у него образование?
Из кармана торчит карандашик, взгляд не любопытствующий, не книжник, мыслей на лице нет…
— Среднее.
— Высшее. А кем он, по-твоему, работает?
Это определялось проще — из кармана торчит карандашик, взгляд не любопытствующий, отбывает смену… Начальник цеха. Нет, у начальника цеха забот хватает. Бригадир или мастер. Но, чтобы вновь не ошибиться, Рябинин брякнул наоборот:
— Директор.
— Ага, — подтвердил Вадим.
Неужели «ага»? А ведь в молодости, готовясь к работе следователя, Рябинин ходил по улицам и разглядывал людей, определяя их характер, привычки и специальность. Но ведь не должность.
Мужчина их увидел и подошёл быстрым и мелким шагом.
— Вы, наверное, ко мне. Юрий Никифорович Гнездилов, директор. Прошу в кабинет.
— А я посмотрю, как делается хлебушек, — отказался инспектор…
Директорский кабинет удивил старомодностью. Выцветшая карта на стене, графин с прошлогодней водой, шкафик с растерзанными папками, счёты на столе.
— Наш заводик, в сущности, небольшой, окраинный, — отозвался Гнездилов на оценивающий взгляд следователя. — Технологическое оборудование, в сущности, изношено, но план даём, подооборот в норме…
— Сколько лет директорствуете?
— Уже шесть. Хоть заводик и маленький, но забот хватает. В сущности, одно цепляется за другое, другое за третье…
На Рябинина вдруг накатило сонное спокойствие. Графин ли с прошлогодней водой усыплял, старомодные ли счёты успокаивали… Да нет, это директор его гипнотизировал серым костюмом, ровными гладкими щеками, нелюбопытствующим взглядом и ватным голосом — это он убаюкивал.
— Юрий Никифорович, а ведь я следователь, — попробовал разбудить его Рябинин.
— Знаю.
Как не знать, если Рябинин допрашивал шофёра, был в управлении и назначил ревизию. И ни испуга, ни тревоги — даже беспокойства не прошмыгнуло в небольших тихих глазах. Неужели у него такая могучая воля? Или совесть чиста? Или он тоже спит, убаюканный собственным кабинетом и голосом? В конце концов, сон — это тоже форма жизни. Но глаза-то открыты, разговор-то он поддерживает.
В кабинет деловито вошли мужчина и женщина, которые показались Рябинину какими-то противоположными: он высокий, худой, с костистым и нервным лицом; она низкая, полная и каравайно кругленькая.
— Наш технолог и наш механик, — встрепенулся директор.
Рябинин пожал им руки — сухую и горячую механика, тёплую и бескостную технолога. Они выжидающе сели у стены.
— А это товарищ из прокуратуры, — вроде бы улыбнулся директор. — Хотя мы живём без ЧП…
— Вы согласны? — Рябинин глянул на сидящих у стены.
— С чем? — вроде бы испугалась технолог.
— Что никаких происшествий не было.
— Конечно, — быстро заговорила она. — Органолептические и другие показатели хорошие. Правила бракеража соблюдаем. Вот отстали с бараночными изделиями. Случалось повышенное число дрожжевых клеток, возрастала кислотность среды…
— Брак бывал?
— В пределах нормы, — скоренько вставил директор.
— А хлеб горел? — прямо спросил Рябинин.
— Как сказать… В сущности…
Юрий Никифорович глубоко закашлялся. Рябинину захотелось налить ему водички из графина, но её застойный вид отвратил от этого намерения. Технолог глядела в пол, рассматривая давно не натираемые паркетины. Острое лицо механика — кости, обтянутые кожей, — было свирепо устремлено на директора, словно он хотел рассечь его надвое.
— Горел, — отрезал механик, не дождавшись конца директорского покашливания.
— Горел, — подтвердил и Юрий Никифорович, сразу успокоившись.
— Три дня назад сгорело около тонны, — добавил механик.
— А раньше? — спросил Рябинин.
— И раньше бывало, — вздохнул директор.
— Почему?
— Автоматика. То одно полетит, то другое. Запчастей нет. Перепады напряжения. Правильно я объясняю, Николай Николаевич?
— Нет, неправильно.
— Ну, как же… Например, вчера вы докладывали, что из мукопросеивателя «Пиората» мука сыплется на пол…
Все смотрели на механика: следователь с любопытством, технолог с опаской, директор как бы очнувшись. Николай Николаевич вскочил и стал походить на гигантский гвоздь без шляпки.
— Верно, технологическое оборудование устарело. Брачок случается. Но есть и ещё одна причина — на заводе орудует подлец.
— Какой подлец? — обрадовался Рябинин повороту в разговоре.
— Который вредит заводу.
— Ну, Николай Николаевич, это уж вы слишком, — попытался охладить его директор.
— А я докажу! — механик опять торпедно нацелился на директора. — Бывает, что исправная линия жжёт хлеб. Почему?
— Значит, как раз и неисправна, — примирительно отозвался Юрий Никифорович.
— А пожар на вкусовом складе?
— Там вроде бы проводка, — тихо вставила технолог.