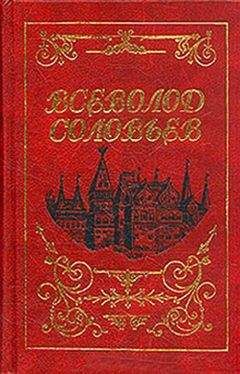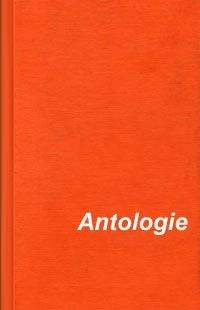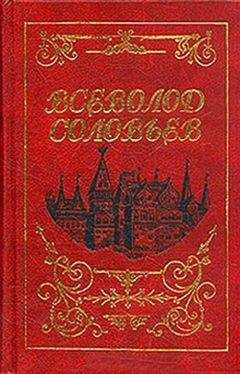Антон Французов - Нешкольный дневник
Кирюха ушел в комнату. Оттуда раздался тихий, захлебывающийся голос Кати. Я невольно похолодел, Мефодий широко шагнул ко мне и прошипел:
— Ты не думай, что я тебя забыл. Мы с тобой еще рассчитаемся. Тварь!
От него пахло бухлом и какой-то псиной.
— Рассчитаемся, — повторил он.
— И с Катей тоже, — не выдержал я, — или ты уже с ней рассчитался, а? Сполна, что она теперь, твоя бывшая, на панели кувыркается? Надо быть очень крутым мужиком, чтобы не суметь защитить свою женщину, да? Тихо спустить в штаны, да?
Зря я это ему сказал. Наверно, он даже не ожидал, потому что выслушал все до конца. У него рожа сразу же побагровела, и, если бы дверь была заперта на пару хитромудрых замков, а не открывалась простым поворотом ручки, он, наверно, размазал бы меня по двери. А если бы и не размазал — я-то тоже был уже далеко не прежний «шестнадцатилетний сутенер», заматерел, — то набежали бы на помощь и — «сутер поганый, бакланье помойное, поднял лапу на бригадира!» — арриведер-чи, Рома. Урыли бы меня самым простым и незатейливым способом, и только-то. А так я вынырнул в подъезд перед самым его носом, слышал еще, как с треском влепился его кулачина в дверной косяк Я с грохотом скатился по ступенькам, едва не вырвав пролет перил, чуть не сшиб с ног загулявшую старушку, которая не иначе как моталась по старичкам, если возвращалась домой в начале двенадцатого. Старушка прокудахтала что-то осуждающее, а сверху, из квартиры Хомяка, на меня обрушилось тяжеловесное, угрожающее раздавить меня — клопа:
— Ты, чмо болотное, больше не жилец! Я твои мозги по стенкам размажу! Я тебе яйца в жопу затолкаю! Я тебе, хуйня сопливая, покувыркаюсь!..
«Каюсь-каюсь-каюсь», — гулко, печально ответили стены пустого предночного подъезда. Я выскочил на улицу и остановился, переводя дыхание. Конечно, ничего нового я не услышал. Каждый брателла почитает за долг пообещать «поганому сутеру» кучу благ, как вышеупомянутое размазывание мозгов и проч. Другое дело, что мне еще предстоит вернуться на эту квартиру. И уж совсем другое дело — это то, что там я оставил Олесю и Катю. Лучше бы там была толстокожая Василиса, что ли, лучше бы я вправил в формат этой чудной бандитской тусовки Ирину, самую безмозглую проститутку, которую иначе как тупой блядью никто и не титуловал. Она бы просто не доперла, в чем дело, и в этом ее счастье. Но тут, как назло Олеся и Катя-Ксюша. Хомяк, как держатель «крыши», конечно, может и вмешаться, но ему Олеся и Катя абсолютно по барабану, даже с тем, что Катя от него беременна.
Жирный ублюдок!
Но самую большую злобу вызывал, конечно, Мефодий. Выставить на групповичок свою бывшую девушку, которая и на панель-то попала не без его, Константина Владимировича, активного участия — это надо уметь!
Я побрел к машине, где меня дожидался Витя.
— Ну что? — спросил он тревожно. — На тебе лица нет, — после паузы объявил он, потому как я молчал. Наконец ответил:
— Хорошо хоть, что башка на плечах осталась. Там у Хомяка ошиваются Костя-Мефодий и Кирюха. Помнишь, два года назад, КПП?
Часы ожидания длились как вечность. И пусть говорит какой-то Катькин философ, что вечность имеет обыкновение очень быстро проходить, для нас она тянулась бесконечной чередой… я-то хоть подзарядился продукцией близлежащего ларька, сбегав за водкой и пивом. А Витьке нельзя было. Узнай о том, что он пил за рулем, Ильнара Максимовна, ему несдобровать. Выпил — значит, подверг потенциальной опасности и себя, и ее, и девочек Весь состав.
И вот наконец пять. К тому времени я уже изрядно накачал себя бухлом. Пит водку из крышки термоса, заедая ее яблоком.
Вышел из машины. Казалось, что дома покачивались вразнобой с ходящими под ветром деревьями. Небо казалось навис шей гранитной глыбой, наверху кто-то, как костер, разводил злую и заунывную песню. Ветер. Да, тогда так и было. Это сейчас я заправляю длинные обороты, а тогда ведь так оно и казалось.
А мне не было и восемнадцати, оставался месяц, целый месяц до совершеннолетия.
Ступени не желали принимать меня, выскальзывали из-под ног. А вот и дверь. Я позвонил в звонок, и мне показалось, что он прозвучал непристойно громко. Что этот звук, резкий звук звонка, станет той последней каплей, которая меня окончательно… окончательно…
Дверь открыл Мефодий.
Нет, это мне только показалось, что был Мефодий, потому что я только Мефодия и ожидал видеть. И только через секунду я понял, что открывший дверь был где-то на полторы головы ниже Кости-Мефодия, уже в плечах и с пошло разъехавшейся талией, чего не позволял себе спортивный ублюдок Константин Владимирович.
Хомяк, это был он.
— Давай забирай своих блядей, — хмуро сказал он. — Дурак ты, сутер. На хера ломил гниляк Мефодию? Это же ссученный дятел. С ним шутить не стоит. Ладно… давай, не топочи. Они все спят. Постой в прихожке, болван.
Я чувствовал в его голосе нотки тяжелого презрения. Этакий акт снисхождения: постой, сутерок, в прихожке, а то злые большие дяди проснутся и тебя, гаденыша, задавят, и поделом тебе, падаль. В коридор вышли девчонки, лица их были блед ны, ни кровинки, но, как я ни присматривался, не мог разгля деть крови или синяков. Если и перепало, то побили технично, без следов. Глаза какие-то потухшие. Особенно у Кати. Она тряслась, словно ее знобило, хотя в квартире вовсе не было холод но, да и на улице не было холодно. Наверно, холод этот шел изнутри.
— Забирай, — коротко сказал Хомяк и, подтолкнув девчонок к выходу, подождал, пока я выйду вслед за ними, и с грохотом захлопнул дверь.
Только на улице я спросил:
— Катя… ну что?
— А ничего, — сказала она. Казалась нежданно спокойной и сосредоточенной. — Ничего. Обычная групповуха. Так сказать, повторение пройденного: меня Костик трахал. Правда, на пару с Хомяком и — потом — этим Кирюхой. Он мне все порвал, тварь. Еле на ногах… вот так
Я скрипнул зубами, и Олеся продолжила то, о чем говорила Катя-Ксюша:
— Зверюги они, водку хлестали, а когда Хомяк сказал, что Катька от него залетела, то Мефодий подмигнул и толкнул Катьку в бок Сказал: дескать, может, все-таки от меня, бля? Ах нет… с ним последний раз года полтора назад она спала? Ничего, освежим. И освежили. Ублюдки. Я думала, они Катьку задавят своими мясами перекачанными. Твари.
— Ладно, Олеся, не надо, — сказала Катя. — А Костя молодец. В свое время он говорил, что хочет от меня ребенка. А теперь, наверно, загубил хомяковского ребенка.
— Да ты что?!
— А что? Он меня толкнул, меня как прожгло. Сейчас в гинекологию поеду.
— Сейчас еще закрыто.
— Позже поеду…
Я слушал разговор двух юных проституток, только что отработавших тяжелейший вызов, и перед глазами, колыхаясь, как марево, черными, упруго очерченными тенями проступала ненависть.
Она не исчезла. Она все так же чернела перед глазами. Я никогда и никого так не ненавидел. Хотя причины были, и были хорошие кандидатуры для этого самого черного и, наверно, самого сильного чувства: я мог ненавидеть Кольку Голика, покойного Клепу (еще при жизни, разумеется), Ильнару, Анну Борисовну, даже Апку — она тоже могла заслужить мои черные чувства, хотя, конечно, не произошло этого. А вот Костя-Ме-фодий прокрался к самому дну моего существа. Там, на дне, и плескалась, ползла, накипала эта черная-черная лужица — ненависть.
Примерно дня через три я сказал Кате:
— Что ты думаешь делать?
Мы с ней в кабаке сидели. Она только что от своего гинеколога, белая вся, трясущаяся, сигарету одну от другой прикуривала.
— А что тут делать? — отвечает. — Аборт, скорее всего, придется делать. Болит все.
— Ты не поняла. Я не о ребенке, я о Мефодии.
— А, о нем, — безразлично откликается она. — А что — о нем? Что я могу сделать? Этот козел мою жизнь перелопатил, но я сама виновата… зачем купилась, а? Я ведь сейчас сижу и думаю: наверно, будь какая-нибудь блестящая возможность, в сравнении с нынешними, я бы опять купилась, верно. Дура. Так что мне нечего на этого урода сетовать. Убить его, конечно, мало, но все равно…
— Не мало.
Она вздрагивает и на меня смотрит, ежась и вжимая голову в плечи, как от холода:
— Что?
— А что слышала, моя дорогая. Я не понимаю, почему такие самодовольные и трусливые твари, как этот Костик, вообще могут жить. Я с детства на таких насмотрелся. Был один такой Клепа, который сдавал внаем мою мать, а потом она пожаловалась, что он ее гнобит… ну и все.
— Что — ну и все?
— Убили его, Клепу этого. Он ее сутенером был. А Костик хуже любого сутенера. Потому что такие, как Геныч, хотя бы считают себя обязанными отвечать за тех, кто им доверился.
Это все, конечно, прекраснодушные переливания из пустого в порожнее, но тем не менее… я не знаю, Катя, но эту тварь надо прихлопнуть. Этого Мефодия.
Она тогда сжала губы и сказала:
— Я тоже так считаю. Но только ответь мне, Рома… ты что, вмазался, что ли?