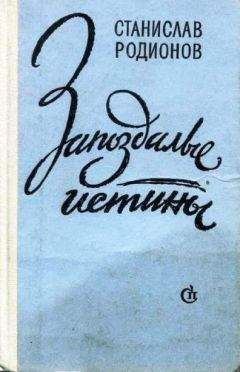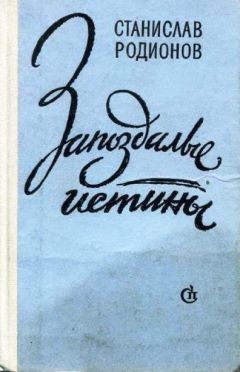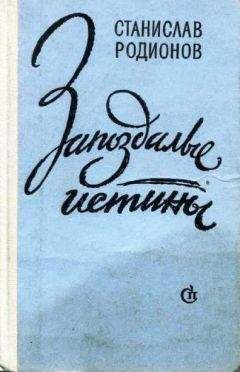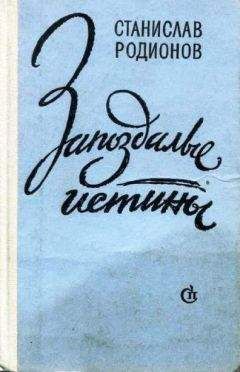Станислав Родионов - Прозрачная женщина (сборник)
Они отрицательно повертели головами. Мы опять помолчали. Чепинога вздохнул. Зуев поерзал. Очевидная глупость этой минуты меня взорвала:
– Товарищи, в чем дело? Хорошо, вы не преступники... Но я же вижу, что вы утаиваете какое-то обстоятельство!
– Та нам это ни к чему, – вяло отозвался Чепинога.
– Зуев, сестра, вероятно, вам звонила... Она человек честный и сказала мне прямо, что правды вы не говорите.
– Какая там правда, – тоже вяло буркнул Зуев.
– Она сказала, что скрываемые факты касаются ребенка.
Водители разглядывали пол, словно тот был расписан известным художником. И я добавил уже с долей бессилия:
– Эх, товарищи, совести у вас нет...
Шоферы переглянулись. И сразу две опережающие друг друга мысли пронеслись у меня: они честные ребята, сейчас все расскажут.
– Тилько можно, чтобы между нами? – спросил Чепинога.
– Никого же нет, – удивился я.
– Без протоколу.
– Хорошо.
Чепинога помялся, распушая пятерней свою седеющую шевелюру:
– Не подумайте, мы горилкой не балуемся.
– И не психи, – добавил Зуев.
Я даже не ответил, заинтригованный таким вступлением.
– Петрю, давай, твои мозги помоложе.
Дробленький Зуев, похожий на сестру лишь большими карими глазами, сосредоточился, как на экзамене. Чепинога же с какой-то пытливой напряженностью уставился на Зуева, точно помогал ему взглядом.
– Дядя Афанасий, ведь сперва ты...
– Ага, сперва я. Это еще на большаке, на асфальте. Какая-то пелена. Дороги не бачу. И не пойму, на стекле или на моих очах. Думаю, никак годики знать себя дают. А и дождь моросит. Говорю Петру, чтобы сел за руль, мол, в глазах рябит.
Чепинога глянул на Зуева, передавая ему рассказ.
– Сменил я дядю Афанасия. Проехал, ну, метров пятьсот. Знаете, как белое облачко село на лобовое стекло. Сказал дяде Афанасию. Тогда и решил, что это белый дым, от города отъехали мало...
– Ты еще поправил, что это кислотные дожди.
– Ага. Ну, если обоим мешает, а очередь дяди Афанасия, то он опять сел за баранку.
Зуев глянул на Чепиногу, уступая очередь.
– Верно, я зарулил. И только мы свернули с тракту на объезд, как то белое облачко, верите ли, стало оформляться...
– Как оформляться? – не понял я.
– В лик.
– В какой лик?
– В человеческий, – приглушенно сказал Чепинога и почему-то глянул на сейф.
– В какой человеческий лик? – тупо повторил я.
– В дамский.
– В женский, – поправил Зуев.
– Ничего не понимаю, – вырвалось у меня.
– Как бы женщина заглянула в лобовое стекло, – серьезно объяснил Чепинога.
– И видели... ее лицо?
– Как ваше. У меня аж все ёкнуло. Бисово наваждение! Конечно, Петру об этом молчок. Мало ли что человеку привидится. А чего я тебе сказал?
– Что в глаза, наверное, попал этот кислотный дождик и выедает очи. Мы опять поменялись. Сколько я прорулил... Метров двести? И вдруг передо мной белое лицо. Я даже вспотел...
– Петро, ты же заорал.
– Заорешь... Женщина на стекле! Можно нам закурить?
Я кивнул. Водители задымили обстоятельно и как-то размышляюще. А я, грешным делом, вспомнил слова Зуевой про пиво: если пить его весь день да потом ночью работать... Вспомнил и способность нашего сознания образно запечатлевать то, что оно долго воспринимало; проговорив с человеком день, я потом видел его лицо в каждом встречном. Водители же долго зрили перед собой лицо Зуевой.
– Что дальше?
– Заглушили мотор и выскочили, – продолжал младший. – На стекле, конечно, никого. Походили вокруг, прошелся я по колее... И вижу какой-то узел. Думаю, буксовали тут или обронили чего. А узел-то как запищит. Меня от неожиданности в сторону повело. Крикнул дядю Афанасия. Вот как было все.
– Вы, кажется, пиво употребляли...
– Я же говорил, что не поверят, – угрюмо бросил Зуев.
– Шуткуете, товарищ следователь, – обиделся Чепинога.
– Разве не пили?
– Утром по бутылке. Так ведь день прошел. И ели, и спали, и мылись, и телевизор бачили. От этого пива только бутылки остались.
– Тогда что же это было? – спросил я с искренним недоумением.
– Мать свое дитятко защитила, – внушительно заверил Чепинога.
– Мать умерла.
– Ее дух, – тоже вполне серьезно поддакнул Зуев. – Не покажись она, запросто могли бы наехать на младенца.
Человеческое мышление, столкнувшись с непонятным, бросается в кладовые своей памяти за похожим, за подобным. Бывало ли в моей следственной практике иррациональное? Разумеется.
Обвиняемым или потерпевшим, особенно их женам, частенько снились тяжкие сны, которые сбывались; это можно было объяснить подспудными тревогами, всплывшими во сне. Происходили криминальные истории, которые, казалось, ничем не объяснишь, кроме вмешательства провидения, но они все-таки объяснялись элементарными совпадениями. Бывала у людей прозорливость, доходившая до ясновидения; были предсказания точнее математических расчетов; чудеса случались в отыскании трупов и в определении преступников, в розыске каких-то украденных бриллиантов или спрятанных людей – и все это можно было понять, памятуя про интуицию, про ту самую, которая есть способность сознания расшифровывать сигналы подсознания.
Но этот случай интуицией не объяснишь, которая на пустом месте все-таки не рождается, и совпадением тут не объяснишь, ибо ничего ни с чем не совпало. Если бы, скажем, попалась им на дороге женщина, остановившая машину случайно, в десяти метрах от ребенка...
– Братцы, а вы, случаем, не верующие? – спросил я с глуповатой вялостью, заранее приготовившись к их обиде или грубости.
– Бог не бог, но что-то есть, – серьезно сказал Чепинога.
– В бога не верю, а приметы сбываются, – нехотя ответил Зуев.
– Но кто она, где она, какая? – вдруг возбудился я, потому что мой здравый рассудок не принимал этой истории.
И Зуев стал объяснять заново и серьезно, точно описывал приметы реального человека:
– Сперва на ветровое стекло навалилось белое облако. Вроде тумана, сквозь который ничего не видно. Надо тормозить. А потом облако становилось лицом женщины.
– Белым-белешенько, – добавил Чепинога.
– Да, и шея была, и плечи, и она как бы наваливалась на стекло...
– Но прозрачная, – уточнил Чепинога.
– Да, сквозь нее дорогу видно, а ехать нельзя.
– Почему?
– Она же глядит прямо в душу! – Зуев непроизвольно показал расширенными глазами, как она заглядывала.
– Что же... и черты лица различили?
– Глаза, нос, рот, волосы... Но все белое-белое и прозрачное, вроде как матовое стекло.
– Я век ее не забуду, – с чувством сказал Чепинога.
– И вот интересно, – вспомнил Зуев. – Ее видит только тот, кто сидит за рулем. Я говорю дяде Афанасию, что, мол, женщина. А он – где, где?
– Товарищ следователь, вы нас извините, что сразу не рассказали. Боялись, что за дурней сочтете.
Кажется, дурнем оказался я, а если и не оказался, то непременно окажусь. Добровольно. Рациональные решения принимаются в рациональных ситуациях. А в иррациональных?
Я пододвинул телефон и набрал номер Леденцова.
– Итак? – спросил оперуполномоченный в трубку.
– Боря, подожду...
– Чего подождете, Сергей Георгиевич?
– Ты же с кем-то говоришь?
– Отнюдь. Вместо банального «аллё» сегодня говорю «итак»!
– Ага, Боря, фотографию матери, Плясуновой, можешь добыть?
– Трупа?
– Нет, живой.
– Сергей Георгиевич, есть какие-то неясности?
– Все предельно ясно, – сказал я правду, ибо следственных загадок не было.
– Тогда зачем фотография умершей?
– После объясню.
– Попробую, но только к концу дня.
Я положил трубку. Водители смотрели настороженно, давили пальцами окурки, не зная, куда их деть, и не решались попросить пепельницу.
– Товарищи, вы обедали?
– Та еще трошки рановато, – сказал Чепинога.
– Погуляйте, пообедайте. Часикам к шести приходите. И я вас сразу отпущу.
Оставшийся день я проработал вполсилы, вернее, в полсознания, ибо все делал, говорил, допрашивал, отвечал на телефонные звонки и сочинял процессуальные документы как бы одним полушарием мозга. Другая половина сознания – если только оно делится поровну, по полушариям, – жила самостоятельной жизнью, а точнее, одним вяжущим вопросом: что же это было с водителями?
Проще всего объяснить видение склонностью человеческой натуры к религиозности, мистицизму, которая у нас в подкорке. Тысячелетия сидел древний человек у костра, подрагивая от страха перед силами природы, зверьем и себе подобными. У кого этого страха трепетало больше, тот уступал, покорялся, прятался, молился и, в результате, был осторожнее. Он и выживал, генетически запомнив подобный тип поведения.