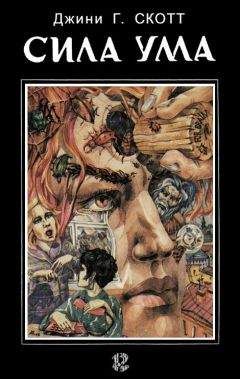Станислав Родионов - Долгое дело
— Да разве дело в том, что умерла свидетельница? Рябинин её не допросил.
— Почему?
— Пожалел больную женщину.
Казалось, что у неё перехватило дыхание. Она смотрела в суховатое, как вычерченное, лицо инспектора, не понимая наплывающей злости к этому человеку.
— Вы бы не пожалели, — бросила Лида и пошла, стараясь оторваться от инспектора. Но скрип песка под тяжёлыми шагами настигал.
Она резко повернулась и встретила его нещадным вопросом:
— Что вы лезете не в своё дело?
— Вы мне льстите.
Она сердито оглядела его, не понимая этих слов.
— Люди только своими делами и занимаются, а я вот чужими.
— Вас не просят.
— Лида, я его высеку.
— Кого?
— Вы знаете кого.
— А я подам на вас в суд!
Странная и сладкая боль чуть не свела скулы, ушла на переносицу и докатилась до глаз. Лида испуганно села на скамейку, зная, что сейчас она может расплакаться. Петельников тихонько опустился рядом.
Сквер, отмежеванный от улицы заслоном кустарника, жил своей микрожизнью. Старушки, дети, голуби… Пахло цветами и нашинкованной травой, которую не скосили, а состригли маленькой тарахтящей машинкой.
— По-моему, есть четыре типа женщин, — сказал инспектор вроде бы самому себе.
Но Лида отозвалась — лишь бы спугнуть слёзы:
— Да?
— Красавицы, в которых влюбляются.
— Да?
— Секс-девы, с которыми проводят время.
— Да?
— Семьянинки, которых берут в жёны.
— Да?
— Общественницы, с которыми рядом трудятся.
— Сейчас вы скажете, к какому типу по этой пошлой классификации отношусь я.
— Раньше я думал, что вы относитесь к пятому типу.
— Ах, есть ещё и пятый…
— Да, женщина-друг.
Она поднялась и заговорила, как захлестала словами:
— Ваша дурацкая классификация ничего не стоит. Истинная женщина обладает всеми пунктиками. А истинный мужчина не суётся в чужие дела.
Инспектор тоже встал, заметно бледнея.
— Лида, чего бы я стоил, если бы не лез в дела своих друзей…
Из дневника следователя.
Думаю, что те, кто верит в неизменность человеческой души, сравнивает её с технической революцией. Тогда кажется, что душа и за тысячу лет не изменилась. Но она меняется. На неё влияют вездесущая техника, лавина информации, новый образ жизни, рост городов, медленная гибель природы… Но есть в ней одно неизменное и будет всегда, пока душа держится в человеке, — это сочувствие и переживание. То сочувствие, которое мне все предлагают и которое я гордо отвергаю. То сочувствие, которого мне так не хватает.
Добровольная исповедь.
Бог-то богом, но ведь не придёшь и не скажешь, что ты бог. Нужна оболочка, то есть должность, социальное положение. Попробуйте провести такой опыт: пусть придёт мужик от пивного ларька, плохонький, без степеней, и прочтёт умнейший доклад — его слушать не будут. Пусть придёт, допустим, кандидат из НИИ и наговорит кучу дури — его будут слушать, задавать вопросы и хлопать. Вот я и задумалась о социальной оболочке. Врач санэпидстанции — это не оболочка, это шелуха. Ни вару, ни товару. При проверке круг копчёной колбасы в детском саду или рыбину в магазине презентуют. Не для бога это.
Лида не поняла, проснулась ли она или совсем не спала…
На улице была такая темь, что в комнате даже белое не белело. В приоткрытое окно задувал влажный ветер. По оцинкованной жести стучали крупные капли дождя, как по пустому ведру. Да нет, не пустому. Странный звук… Почему жесть так жалобно скрипит?
Она протянула руку и включила торшер. Жёлтый свет мигом выдавил тьму из комнаты, но там, за стеклом, она стала ещё плотней — хоть режь её. Лида спустила ноги с кровати и подошла к оконному проёму, из которого текла зябкая ночь. Звук капель по жести был звонок и льдист. И тогда она прошла к двери, задетая смутным предчувствием. Стояла, прислушиваясь. Жалобный скрип жести. Нет, жалобный скрип дерева, какой можно услышать в деревне или в ветреную погоду на опушке леса. Он шёл оттуда, из глубины квартиры.
Босиком, в ночной рубашке, метнулась она через переднюю к порогу большой комнаты, где замерла привидением.
На диване, опалённый светом забытого ночника, спал Рябинин и плакал во сне…
Она включила люстру, подбежала к дивану и, вскрикнув, упала на Сергея. Он открыл глаза и не удивился, и не испугался, ничего не спросил и не сказал, словно она пришла к нему раньше, ещё во сне. Он прижал её с такой силой, что она застелила его лицо своими волосами и, казалось, сейчас растворится в нём вся, без остатка… Потом они лежали тихо — она плакала, он вздыхал. Потом он рассматривал её лицо, вспоминая и узнавая, — близко, близоруко, без очков, отстраняя эти бесконечные волосы. Потом она оглаживала его похудевшие щёки и скулы, но ей мешали свои волосы. Потом он вдыхал её запах, чуть было не забытый. Но ему мешали её распущенные волосы. Потом она искала его губы в этих распущенных волосах. Потом он искал губами её лицо, каждую его точечку, но мешали распущенные волосы. Потом она гладила его спину и бока, проверяя, насколько он похудел и как, господи, она могла это допустить. Потом они начали говорить, бессвязно, почти бессмысленно, скороговоркой, потому что им мешали её распущенные волосы…
И когда они измучились, он сказал:
— Пойдём пить чай, а? Я ведь не пил его с тех пор.
— Серёжа, ты простишь меня, да?
Её распущенные волосы помешали ему ответить…
Были зажжены все лампы, люстры и торшеры. Испуганная тьма бессильно прижалась к стеклу. Весело, как ксилофон, стучал по жести дождь. И было непонятно, почему город спит. Неужели только потому, что половина второго ночи?
Они пили чай. Она в ночной рубашке, он в трусах. И было не холодно, потому что огненный чай согрел своим ароматом всю квартиру.
— Серёжа, мне показалось, что ты меня разлюбил.
— Какая глупость…
— Но твоя любовь стала другой.
— Да, потому что всё меняется.
— А я не хочу, чтобы она менялась.
— Лида, ты испорчена песнями о любви. Там любят обязательно молодые, и любят страстно. А что потом?
— А что потом?
— Истинная любовь начинается потом, после молодой и страстной.
— У тебя… началась?
— Теперь я люблю тебя сильнее, чем в юности.
— Почему же ты не спешил на кухню, когда я вскрикивала?
— Потому что я дурак.
Она вдруг побежала к холодильнику, к плите и кастрюлям, чтобы накормить его, чтобы заставить его съесть всю ту пищу, которую он недоел за эти дни. Но Рябинин её поймал посреди кухни, и меж ними оказались лишь её распущенные, так и не собранные волосы…
— Теперь у нас любовь, а в молодости была влюблённость.
— Как ты легко отказываешься от молодости…
— Лида, я не отказываюсь, но вторая любовь выше и глубже, хотя она не воспета и не так ярко блестит.
— Для меня всякая любовь священна.
— Всякая? Влюбляется почти каждый молодой человек. А что лет через десять? В лучшем случае супружеская пара. У них была влюблённость, и не пришла любовь.
— И почему так, Серёжа?
— Он в своей жизни не страдал. Она в своей жизни не страдала. Вместе они не страдали. Откуда же быть любви?
— А для любви нужно страдать?
— Я так думаю.
— Но ведь любовь — это радость?
— Через страдания.
— Тогда, Серёжа, мы будем всегда друг друга любить, потому что мы слишком много и часто страдали.
И промелькнуло, исчезая…
…Нет приятных болезней, кроме одной — любви…
Они всё-таки оделись. Она всё-таки заставила его есть. И он вдруг обнаружил в себе волчий аппетит, когда ешь и ешь и всё больше хочется. Он бы так и ел, нервно и бесконечно, но её шея и грудь под распахнутым халатом неожиданно — какое там неожиданно — привлекли его губы магнитной силой туда, под кисею распущенных волос…
— Серёжа, я никогда себе не прощу этого спектакля с Храминым.
— А кто же мне звонил про свидание?
— Валентину попросила. Подлая я, да?
— Это я глупец.
— Серёжа, если я когда-нибудь стану тебя упрекать, ругаться или выкомаривать, ты мне эту комедию вспомни. Вспомнишь, да?
Он всё в ней открывал заново, словно она приехала после годичной командировки. Он увидел её покатые, пологие плечи, женственно уходящие вниз, на руки. Он положил на них свои ладони и покатил их вниз, на руки, но запутался в ночных распущенных волосах…
— Серёжа, и всё-таки я подлая.
— Вот как?
— Ты страдал, а я тебя почему-то ненавидела.
— Ненавидела?
— Да, злилась на тебя, презирала, терпеть не могла… Разве так может быть?
— Может.
— Что же это, Серёжа?
— Это любовь.
— Ты шутишь?
— Любовь требует ответного чувства, ответной реакции. Тебе казалось, что её нет. Тогда наступает раздражение, злость и даже ненависть. И чем сильнее любовь, тем сильнее эта ненависть.