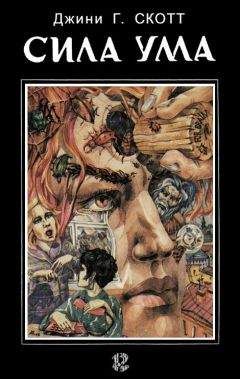Станислав Родионов - Долгое дело
— А я и не куплю. Я хочу, чтобы вы его музею подарили.
— Господь с вами…
— Где бы нам поговорить?
Дама улыбнулась вдруг такой целомудренной улыбкой, что хозяйка, опалённая, какими-то мягкими лучами, тоже улыбнулась и повела её в комнату. Гостья села на диван, с любопытством обегая взглядом люстру-бутон, тонконогую этажерку, инкрустированный буфет, грибовидный торшер, полутораметровую вазу…
— Вещи моей бабушки, — отозвалась Антонина Максимовна.
— Письмо тоже её?
— Да, кто-то из нашего рода был знаком с самим Поэтом.
— Письмо деловое?
— Что вы, он не писал деловых писем. Оно к женщине.
— Вы правильно сделали, что не продали его местному музею.
— Почему же?
— Антонина Максимовна, можно быть с вами откровенной?
— Да-да, конечно.
Кологородская поставила рядом с собой крупный, прямо-таки мужской портфель, задумчиво побарабанила по нему пальцами и заговорила, подбирая слова:
— Представьте это письмо в музее. Лежит под стеклом и лежит. А если вы его подарите, то рядом с письмом будет табличка, кто подарил и когда.
— Нет-нет…
— Вы должны это сделать и ради Поэта.
— Да ведь теперь нет истинных ценителей поэзии.
Гостья опять улыбнулась своей девичьей улыбкой, как провинившаяся дочка. Она расстегнула верхнюю пуговицу жакета, и эта простота понравилась Антонине Максимовне.
— Теперь нет и настоящих поэтов, — сказала работница музея, приглушая голос.
— О, я тоже так считаю, да вслух уж не говорю.
— В журнале прочла такие строки: «Она его за муки полюбила, а он её и сам не знал за что…»
— Неужели? — удивилась старушка, загораясь слабеньким отсветным румянцем.
— Антонина Максимовна, у поэта должна быть женская душа. А теперешние поэты всё по командировкам ездят.
Кологородская в сердцах расстегнула ещё одну пуговицу.
— Вы правы. Ездят и ненатурально восторгаются. Растущий хлеб, завод, какая-нибудь труба их беспредельно удивляют, как будто они с луны свалились.
— Антонина Максимовна, а где у них натуральные чувства?
— Да, теперь сочинённые. Раньше страдали.
— Поэзию, Антонина Максимовна, постигает участь флоры — она исчезает.
Хозяйка поднялась вдруг с неожиданной и лёгкой силой.
— Я вам покажу письмо…
Лист плотной, потемневшей бумаги лежал в рамке под стеклом. По нему свободно бежали тонкие и высокие буквы, чуть надломленные посредине, словно у каждой была талия. Чернила уже поблёкли и не имели определённого цвета…
От волнения Кологородская расстегнула очередную пуговицу.
— Почерк непонятный.
— А знаете, чем писано? Гусиным пером.
— Вы прочли?
— Да я знаю его наизусть.
— О любви?
— Он пишет женщине, в которую влюбился на балу. Она неосторожно приподняла платье. Поэт увидел её ножку и чуть не потерял сознание.
— Какая сексуальность!
— Как вы сказали?
— Сейчас бы его не поняли.
— Раньше знали, что такое чувства.
— Антонина Максимовна, вас… любили так?
— О, это особый разговор…
Кологородская нервно теребила жакет, бегая пальцами по ткани, похожей на затуманенный полиэтилен. Они коснулись последней пуговицы, которая с готовностью расстегнулась, открыв грудь. В глубокой ложбине таинственно блеснул золотой крестик на серебряной цепочке.
— Вы… по моде или верующая? — тихо спросила хозяйка.
— О, извините, — засуетилась Кологородская, запахивая жакет. — Об этом никто не знает.
— Меня не бойтесь, я сама хожу в церковь.
— Вот бы встретить такого человека, — вполголоса сказала гостья, очарованно разглядывая скоропись Поэта.
— Я забыла ваше имя…
— Ангелина Семёновна Кологородская.
Старушка взяла письмо, опять поднялась и, начав бледнеть прозрачной бледностью, заговорила торжественно и громко, видимо, из всех собранных сил:
— Вы правы. Какой смысл отдать его после смерти? За других я уже не порадуюсь. А продавать за деньги грех…
Она закашлялась тихим, каким-то овечьим кашлем. Но отдышалась.
— Ангелина Семёновна, я передаю это письмо Поэта в дар государству.
Кологородская шумно и радостно встала, приняла письмо, пожала дарительнице руку и поцеловала её в щёку.
— Другой бы женщине не отдала, — призналась Антонина Максимовна и заплакала.
И пока Кологородская составляла акт на большом официальном бланке с гербом, старушка глядела на письмо и тихо плакала, как над умершим человеком. Она безразлично подписала бумагу, вытерла опавшие от времени щёки и бессмысленно попросила:
— Не потеряйте, ему цены нет.
— А сколько приблизительно?
— Я имела в виду историческую ценность.
— Антонина Максимовна, можно зайти завтра?
— Приходите, приходите. Чайку попьём.
— Расскажу, в какой газете будет информация о вашем поступке и где письмо будет выставлено. А вы расскажете про свою поэтическую любовь…
Старушка бессильно махнула жёлтой рукой. Кологородская опять чмокнула её в остуженную слезами щёку и пошла к лифту.
Антонина Максимовна закрыла дверь. На трюмо лежала блёклая шляпа с обескровленными вишенками. Шляпа была моложе письма лет на сто, но ей казалось, что они ровесники и она её носила, когда Поэт написал женщине это письмо. Но теперь письма нет. Для чего же хранить шляпу?
Она прошла в комнату, уж и не очень касаясь пола, — как по воздуху. На столе лежал дарственный акт. Антонина Максимовна взяла этот лист, который был теперь вместо письма.
Под гербом краснело огромное слово «Грамота». А дальше сообщалось, что за примерное поведение и отличную успеваемость этой грамотой награждается ученик сто первой школы Вася Семикозов.
Из дневника следователя.
Я шёл по улице, и вечернее солнце, ударившее в спину, положило мою тень на асфальт. Странно. Чёрная, плотная и чёткая тень… Значит, моё тело загораживает свет? Значит, оно есть, моё тело? Значит, я живу?
Добровольная исповедь.
Что я хотела делать в жизни? Как говорят школьники: кем быть? Вы сейчас улыбнётесь, но исповедь есть исповедь. Я хотела стать богом. Нет-нет, не женщиной-богиней, этакой красоткой для всеобщего обозрения, а богом — всесильным, мудрым и незаменимым. Думаете, это невозможно? Быть умнее всех. Понимать то, чего другие не понимают. Предвидеть, чего и футурологам невдомёк. Помнить то, что все давно позабыли. Делать, что у других не получается. Думаете, невозможно? Стать таким человеком, к которому приходили бы люди, напрасно обойдя все инстанции. Стать такой, чтобы твой адрес узнавали в других городах. Председатель исполкома в просьбе отказал, а Калязина её удовлетворила — вот каким человеком стать. Думаете, невозможно? Так вот, я им стала.
В институтскую столовую Лида теперь не ходила.
Сторонясь людей, она выскользнула на улицу и неуверенно зашла в кафе. Взяла, что попалось на глаза. Котлету и стакан жёлтого сока. Котлета из мяса… Разве? Но ведь это не мясо — это труп животного. Сок… Это не сок это кровь растений.
Она бросила вилку и побрела в сквер. Её остановил городской стожок, накошенный в газоне и придавленный бревном. Боже… Это не бревно — это туловище дерева. На нём не смола — на нём слёзы сосны. И это не стожок — это тельца цветов…
— Не стог, а кочка.
Лида отпрянула от знакомого голоса, которого быть здесь не должно.
— Вадим? Что вы тут делаете?
— Тсс! Я слежу вон за тем человеком…
Петельников скосил глаза на далёкую скамейку, где благообразный пенсионер мирно кормил голубей.
— Что же он сделал? — удивилась Лида.
— Отравил свою жену.
— Да? За что?
— За измену.
Она шагнула назад, отстраняясь от инспектора и раздражённо краснея.
— Следите за мной, да?
— Слежу, — подтвердил инспектор, обдавая её радостной улыбкой.
— На каком основании? — вспыхнула она.
— Такая у меня работа.
— Ваша работа следить за убийцами!
— А вы разве никого не убиваете? — вполголоса спросил Петельников, сминая улыбку твердеющими губами.
Лида вскинула голову. Светлые волосы неожиданно блеснули рыжим и упорным огнём. В серых глазах пробежала диковатая зелень. Но всё пропало под набежавшим страхом, когда другие её мысли заслонила последняя: неужели она убивает?
— Он вас послал?
— Вы не знаете своего мужа, — усмехнулся инспектор.
— Нет, знаю, — звонко и глупо возразила она.
— По-моему, теперь вы даже не подозреваете о его неприятностях.
Лида знала эти неприятности, но у неё начало всё цепенеть и отваливаться от холодеющей мысли, что появились другие беды, новые, в которых виновата уже она.
— Любой свидетель может умереть, — сказала Лида, не догадываясь, что она не Рябинина оправдывает, а оправдывается сама.