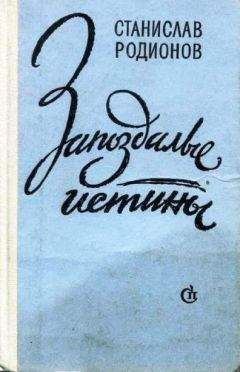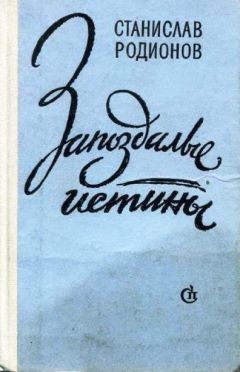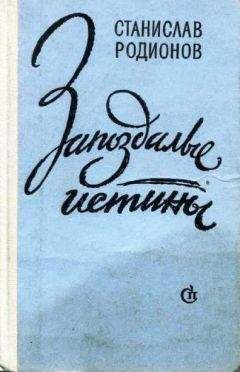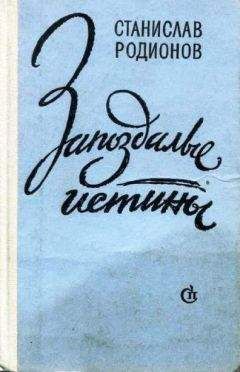Станислав Родионов - Прозрачная женщина (сборник)
– Значит, водитель вы опытный...
– Всю жизнь за рулем.
Широкой пятерней он провел по черным, чуть тронутым белой строкой волосам и на короткое время втянул живот. Видимо, чтобы не рос. И выбрит водитель гладенько, несмотря на глубокую ночь; и пахнет от него не бензином, а одеколоном. Молодящихся я одобряю; это лучше, чем стареть некрасиво.
– Какая скорость у «КамАЗа»?
– По шляху давали под восемьдесят.
– Ну а по объездной колее?
– Убавили до тридцати.
– При тридцати можно грузовик остановить внезапно?
– Неможно. Он сам весит восемь тонн, да лесу кубиков сорок.
Чепинога сильно и скоро вжал живот и молодо зыркнул на меня – вижу ли? Откуда у него силы, когда время уже к четырем? Предутро.
– Кто был за рулем?
Водитель вдруг стал думать, ероша жесткие волосы.
– Не помню.
– Не помните, кто держал баранку? – удивился я.
– Та ж ночь, вздремнешь чуток и все позабудешь.
– Хорошо, кто первый увидел ребенка?
– Я.
– Подробнее, пожалуйста; как увидели, где, когда...
– А может, первый увидел Петро?
– Значит, не вы?
– А может, увидели вместе.
– И это не помните?
– Так ведь один рулит, второй дремлет.
– Но тогда тот, кто рулил, и увидел первым, должен был разбудить спящего?
– Оно, конечно, так, да в голове мешанина. Ночь, притомился трошки, – и такой подарочек.
Мои ночные дежурства подтверждали правоту его слов. Ночью мир видится слегка иначе, чем днем; в домах, улицах, лицах и собственных мыслях появляется чуточку иррациональности, как в полотнах импрессионистов. Не зря есть пословица, что утро вечера мудренее.
– Афанасий Никитович, что же вы увидели?
– Вроде как бугорок. Или плошка какая. А потом бачу, что оно имеет цвет, вроде как той же капусты, сине-зеленый. Кричу Петру, чтобы тормозил...
– Значит, за рулем был напарник?
– Да? – вроде бы удивился он.
– Я спрашиваю вас...
– Выходит, Петро...
– Вспомнили?
– Вспомнил: у меня живот схватило от домашнего сала.
– Ну и что?
– Вот мы с Петро и менялись каждую хвылинку.
Хвылинка – это вроде бы по-украински минутка. Но зачем меняться каждую хвылинку, если у одного заболел живот? Разве второй не может посидеть за рулем? Или уж такой строжайший график смен?
– Дальше, – потребовал я.
– Выскочили мы с Петром и очам своим не верим... Дите на дороге; живое, на холоду и дождю. Лежит и пулькает. А вокруг ни хаты, ни человека. Петро и говорит, отвезем, мол, его к Танюхе. А тут мотоцикл. Мы и послали парня в милицию.
– Танюха – жена Петра?
– Он еще парубок, неженатый.
– Значит, Танюха – ваша жена?
– Моя жинка Оксана.
– Кто же Танюха?
– Не знаю.
– Вы только что сказали, что Петр предложил отвезти ребенка к Танюхе...
– А-а... Мы всех женщин зовем под одну гребенку, Танюхами.
– Какую же Танюху имел в виду ваш напарник?
– Да никакую. Мол, отвезем вообще, к какой-нибудь Танюхе.
– Вы хотите сказать, что он предложил отдать найденного ребенка любой женщине?
– А вдруг бы милиция не приехала? Куда его девать...
От сильно брошенного залпа капель стекло запело тоненько. Не укреплено, что ли? Тьма, ветер, дождь – для осени хватит. Так еще и плаксивое стекло. Тьма, ветер, дождь, плаксивое стекло, да еще и человек, похоже говоривший неправду. Ложью следователя не удивишь. Но этот Чепинога – свидетель, мой союзник в поисках правды. Поэтому и говорил я с ним расслабленно, не готовый к сюрпризам; я даже об ответственности за дачу ложных показаний его не предупредил.
Впрочем, не тороплюсь ли? Бывают такие путаные люди, что затмят любой наияснейший вопрос. И рвачи бывают безудержные: может, эти ребята спешили со своими кубиками леса и валандаться с каким-то ребенком им было не с руки. Отдать встречной Танюхе – и все.
– Афанасий Никитович, я вас допрашиваю официально. И я вас должен предупредить об ответственности за дачу ложных показаний...
– Та какие ложные?
Теперь, когда я смотрел на него уже следственным взглядом, мне все приоткрылось. Ложь отыскать трудно только в лживом человеке – у честного она проступает на лице, как сквозь кальку. И я не смог бы указать на ее конкретные приметы: Чепинога не краснел, не бледнел и не потел. Но взгляд стал каким-то легким, готовым перепрыгивать с предмета на предмет; крупные губы были странно неспокойны, точно хотели уползти с лица; уже не поправляемые волосы рассыпались безвольно; уже не втягиваемый живот выполз на свободу... Оказывается, нашлись конкретные приметы лжи. Правда, раньше этого человека я не знал и сравнивать теперешнее его состояние было не с чем.
– Гражданин Чепинога, так кто же первым увидел ребенка?
– Не помню. Це хиба важно, товарищ следователь?
Совершенно неважно. Но я хотел понять, почему сбивается свидетель, давая такие элементарнейшие показания.
– Что было дальше?
– Вышли. Бачим, младенчик. Ну, где искать милицию? А тут мотоцикл фырчит...
– А про Танюху-то?
– Пошутковал Петро, товарищ следователь. Я тоже ему пошутил.
– Как же?
– Верно, говорю, что детей находят в капусте.
Я вздохнул. Как это ни странно, но меня не раз подводила четкая логика. Следственная версия не похожа на чертеж задуманной машины, потому что в него, в чертеж, не вторгается жизнь. Я требую от водителя логичного поведения... А ведь была ночь, тьма, дождь, длинный путь, ревущий мотор, да живот болел. Видимо, это лишь часть известных мне привходящих факторов. Не одолела ли меня профессиональная мнительность?
– Афанасий Никитович, сейчас живот болит?
– Ни-ни, – испугался он, точно ждал от меня каких-то процедур по проверке его недомогания.
– Посидите в коридоре, и пусть войдет напарник.
Я подумал: ночь, следователь допрашивает, оперативники бегают, ребенок в больнице... А ведь где-то есть мать. Спится ли ей в эту ночь с черными дождями и тренькающими стеклами? И видит ли она сны, голубые, как капуста на том поле?
Неудобно признаваться, но материнская любовь меня трогает мало. По двум причинам.
Несколько лет я занимался расследованием преступлений несовершеннолетних. И убедился, что зависимость отцов и детей наипрямейшая: какие родители, такие и дети; какие дети, такие у них и родители. Насмотрелся. Никогда не забуду старушку, бросившуюся на Леденцова и лупцевавшего его сухими голенькими кулачками, – не давала сына-убийцу, которого в день убийства и напоила самогоном. Насмотрелся.
И по другой причине не восхищает материнская любовь – от инстинкта она, а не от разума. Заложена природой, как, скажем, сохранение жизни или размножение. Как и у животных. Есть такая муха, яйца которой могут дать потомство только во внутренностях другого животного. Так эта муха-мамаша находит лягушку и снует перед ней до тех пор, пока земноводное ее не проглотит – добровольно погибает ради своих детей.
Вот я и думал... Не хватило у этой матери ума ребенка пристроить, но почему же инстинкт не сработал? Разумеется, я допускал, что ребенка могли украсть и бросить в поле. Но тогда бы мать оборвала телефоны в милиции...
Напарнику, Петру Ивановичу Зуеву, оказалось двадцать шесть лет. В сыновья годился Чепиноге, но молодость его скрадывалась неказистостью: небольшого роста, потертая куртка неопределенного цвета, шершавые плохо выбритые щеки, кепчонка, разбитость во всей фигуре... И никакого запаха одеколона.
– Рассказывайте, – устало предложил я.
– Как свернули с бетонки на темную землю, на эту капусту, так я и загадал: если проедем с километр и не тряхнет, то ЧП не будет, а если тряхнет...
– Подожди-ка, – перешел я на ты, что позволял мой возраст да и как-то сближающая ночь. – Почему загадал?
– Привычка у меня такая. Иду по улице и думаю: если женщина добежит до автобуса, то пойду в кино, а если не успеет, то пойду к знакомой.
– Кстати, как ты их называешь?
– Кого?
– Знакомых женщин.
– У какой какое имя.
– Всех, вообще, собирательно...
– Девушки, дамочки, герлы... Шутя – телка.
– Ну а Валюха, Нинуха?..
– Такой манеры нет.
Видимо, такая манера была только у Чепиноги. Но Зуев о ней не упомянул.
– А почему ждал ЧП?
– Объезд, земля жирная, дождь... Буксануть ничего не стоит.
– Кто сидел за рулем?
Мне показалось, что он надумал уйти, – так резко отвернулся к двери. Посидев в этом положении добрую минуту, водитель поворачивался ко мне сложно, точно был свинчен из отдельных частей: сперва повернул плечи, потом голову, а уж последним вернулся его потускневший взгляд.
– Кто же сидел за рулем?
– Не помню.
И он не помнит? Усталость с меня скатилась, как с того гуся вода; я понял, что тихому ночному следствию пришел конец.