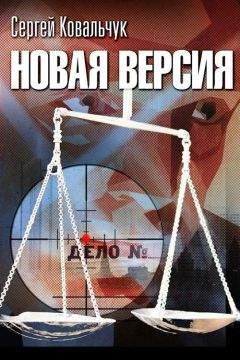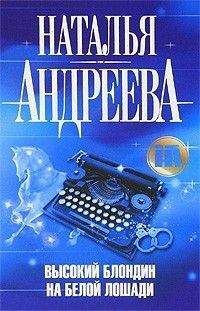Николай Трус - Символика тюрем
Горестные мысли так взволновали меня, что, когда открылись ворота этапной тюрьмы на Центральном вокзале, я грубо ответил на просьбу одного арестанта. Софийская этапная тюрьма находилась левее вокзала — одноэтажное здание с двумя помещениями для арестантов: мужским и женским отделениями. Большая часть мужского отделения была занята огромными нарами с голыми досками, не видевшими давно ни метлы, ни воды, со стенами, испачканными следами крови.
На нарах по-турецки сидел цыган средних лет. Когда я вошел, он, увидев стеку с питкой, жадно крикнул:
— Дай!
Меня возмутили его жадность и нахальство, и я поэтому резко сказал ему:
— Подожди, как тебе не стыдно, я ведь еще даже не вошел!
Но он снова сказал, я помню это точно:
— Дай! — и протянул правую руку.
Я думал, что это обычная в таких обстоятельствах жадность. И, не зная, какая трагедия заключалась в этих трех звуках «дай», не подозревал, что именно благодаря этому человеку и этой лепешке увижу человека с большой буквы, которым восхищаюсь и до сих пор.
Я опустил на пол один конец кандалов (его держали в руке), положил узелок, вытер пот, но остался стоять — мало кто решался сесть или лечь на нары, боясь, что на него наползут насекомые.
В камере было еще несколько человек, среди которых двое молодых, прилично одетых мужчин. Их одежда казалась довольно-таки вызывающей в этой обстановке. Первые слова в любой тюрьме, конечно, откуда, куда, за что. Это двое не понимали по-болгарски, но мы узнали, что они легионеры Железной гвардии Кордеану из Румынии. После разгрома этой гитлеровской организации они бежали в Грецию, там их арестовали и сейчас по этапу возвращали в Бухарест. Мне было любопытно наблюдать за ними и находиться в одной тюрьме с этими лютыми идейными и политическими врагами.
Я рассмотрел цыгана на нарах — это был человек средних лет, из оседлых, городской цыган, в поношенной, но не совсем порванной одежде. Вдруг он упал на доски, и у него начался припадок. Кто-то из арестантов хотел постучать в дверь, позвать полицейского. Я остановил их. Такую картину я уже наблюдал не раз. Эпилепсия. Тяжелое зрелище. Он изо всех сил бил руками по доскам, сцепив зубы, пена появилась на его губах, он корчился, конвульсии сотрясали все его тело, а вытаращенные глаза не видели ничего. Через несколько минут он успокоился. Глаза его прояснились, он посмотрел на нас как ни в чем не бывало, выпрямился, сел. И сказал едва слышно: — Я есть хочу.
Я отломил кусок питки и протянул ему. А он схватил ее обеими руками и с такой жадностью стал есть, что мне стало ясно — он давно голодает. Когда он отдышался, я заговорил с ним, желая понять, что с ним произошло, чем ему можно помочь. Его перевели три дня назад из Дупницы и направили — я не понял за что — в Разградский округ. И все эти три дня и три ночи он не имел и крошки во рту. Вот что оказалось причиной инстинктивного возгласа: дай! — при виде питки. Из Дупницы до Софии три дня, а потом от Софии до Разградского округа — еще три или пять. Без еды. Вопиющее безобразие! А власть имущие даже не подозревали — если это вообще их интересовало, — как общество отрицает само себя при помощи этого «мелкого» упущения. Мы разговорились. Цыган показался мне человеком рассудительным. Видя, что он еще голоден, я отдал ему половину от оставшегося куска питки. Другой кусок остался в сетке.
Когда нам сообщили, что поезд на Плевен с арестантским «купе» отправляется, он вызвался помочь мне нести вещи. Кандалы я не мог ему дать, даже если бы хотел, они были крепко прикованы к щиколотке моей правой ноги, а узелок я боялся ему доверить — цыган! и притом арестант, при случае утащит и глазом не моргнет. Но он предложил понести сетку с питкой, и… как я мог ему сказать: «Не дам!» Ведь он человек! А человеку надо доверять, надо ему верить. Ведь я могу его обидеть недоверием. Из-за какой-то питки. И я махнул рукой — в конце концов, что такое кусок питки? Пустяк. И он взял сетку. Нас посадили в два разных купе вагона. Цыгана поместили с двумя легионерами, контакта не было. Мы ехали три часа до станции Плевен, где я должен был сойти. Я взял вещи и пошел по коридору перед «моим» полицейским, даже и не думая о питке. Я был уверен, что она давно съедена. Но когда я проходил мимо купе, где находился цыган, дверь отворилась, он сказал:
— Аркадаш, возьми свою сетку, — и подал мне сетку с питкой.
Потом шепнул, что легионеры уговаривали его эту питку съесть.
— Но я не согласился. Это, сказал я, того парня, я берегу ее для него. Возьми, поешь. — И он посмотрел на меня доверчиво и просительно.
Он хотел, чтобы я оценил его поступок — ведь он сберег питку от жадных легионеров и сам к ней не притронулся. Он хотел мне доказать, что оправдал мое доверие. Никогда в жизни я не переживал большего удивления! Изголодавшийся цыган сохранил свежую питку! Нет, здесь не подходит слово «цыган» или «попрошайка», здесь может подойти только одно слово: человек! Арестант, нарушитель, голодный цыган победил себя во имя человеческого доверия!
Я отдал ему сетку с питкой, так как теперь она уже принадлежала ему. Ведь он проявил себя человеком…
(Ганчовский Н. За тюремной решеткой. — М.: Политиздат, 1974)
Тюрьма времен военного переворота в Чили
11 сентября 1973 года в Чили был совершен военный переворот — один из самых жестоких и кровавых в истории Латинской Америки.
Документальная книга Серхио Вильегаса «Стадион в Сантьяго», написанная по горячим следам событий, и поныне остается одним из лучших произведений о страшных днях сентября 1973 года.
Рассказывает Эстебан Карвахаль. Наступила моя очередь. Нас, пятерых арестованных, привели на допрос. Майор без передышки бил меня кулаком в уши. От его ударов я качался из стороны в сторону, изо рта хлынула кровь. Затем мне нанесли сильный удар сапогом в пах, и я резко качнулся вперед. Я, наверное, упал бы, если б не получил новый удар, на этот раз в спину. Потом меня снова начали бить в пах. Я корчился от боли, но удар под ложечку вновь не дал мне упасть.
Нас забрали по соседству с Северным райкомом партии, недалеко от 7-го полицейского комиссариата, между половиной девятого и девятью часами утра в одном из примыкающих к райкому домов. Я находился там вместе с четырьмя товарищами. Окружившие дом полицейские ворвались внутрь, бросая бомбы со слезоточивым газом, а затем выволокли нас на улицу. Заодно они прихватили телевизор, лежавшие в ящике комода деньги, несколько ламп, столовый сервиз и кое-что из одежды.
В комиссариате нас встретили пинками и прикладами. Весь путь до комиссариата мы проделали под градом ударов. Излюбленной мишенью были спина и нижняя часть живота. Нас привели во двор и заставили лечь лицом вниз, руки на затылке.
В таком положении нас стали по одному допрашивать. Кто у вас главный? Кто командир? Чем занимались? И основной вопрос — где оружие? Ничего не знаем, отвечали мы, не имеем об этом ни малейшего понятия.
Радио было включено на полную мощь, и мы слышали все, что происходило в президентском дворце Ла-Монеда: ультиматум, предъявленный мятежниками Сальвадору Альенде, бомбежку дворца, первые приказы хунты.
В двенадцать пришел офицер. У него был свой метод запугивания людей.
— За первого же погибшего карабинера, — сказал он, — один из вас поплатится жизнью.
В час явился капитан Асокар с новостью.
— Только что погиб карабинер, — сказал он угрожающим тоном. — Еще одна жертва, и мы всех вас поубиваем.
В пять часов поступило новое сообщение: «Погиб еще один карабинер. Мы вас расстреляем». Послышался лязг затворов.
— Не будьте идеалистами, мальчики! — увещевал нас капитан. — Скажите, где оружие. Никто об этом не узнает.
Я заметил, что некоторые товарищи стали проявлять признаки слабости. Мы все были уверены, что нас убьют.
Через три четверти часа пришел армейский майор, и нас повели на допрос. Для проформы, конечно. Предварительно майор устроил нам спектакль: сделав вид, что оскорблен сказанными словами, он в наказание пригрозил одному из товарищей, что ему сделают подкожную инъекцию воды из-под крана. Рядом уже стоял новобранец со шприцем наготове. Вдруг майор сказал этому товарищу:
— Ты, однако, не трус!
Из допроса ничего не помню, кроме избиений. Думаю, что в этом и заключалась его цель. Продолжался допрос долго, и я никогда не испытывал такой боли и одновременно такого бессилия. Ощущение было такое, будто мое тело разломано на несколько частей. Мы все, кажется, держались стойко. Раздосадованный офицер сказал наконец:
— Я их забираю.
Офицер корпуса карабинеров подстрекнул его:
— Они наверняка что-то знают, так как их взяли у райкома.
Сначала нас привели в ближайшую воинскую часть, а оттуда на военном автобусе отправили в расположение полка «Такна». Мы с удобствами разместились на сиденьях. Однако длилось это недолго. Когда мы проезжали через центр Сантьяго, между жителями города и мятежниками вспыхнула сильная перестрелка. Карабинеры из 7-го комиссариата бросились на пол. Мы же вынуждены были сидеть, слушая, как кто-то из карабинеров орал нам: