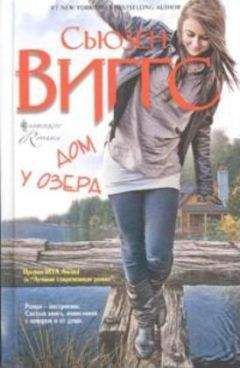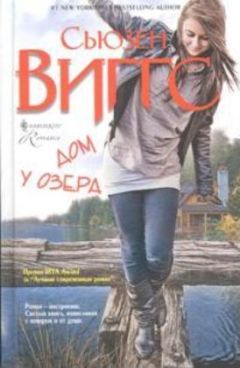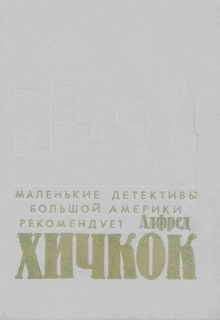Юрий Смолич - Язык молчания. Криминальная новелла
Она чрезвычайно взволнована. Видимо, мысли ее вплотную приблизились к конкретному.
— Лишь одно, — вздыхает она, — с самого начала посеяло между нами раздор и иногда приводило к диким взрывам вражды и злобы, — он не хотел детей. Я, правда, тогда не очень настаивала на этом: была еще молода, материнские чувства еще были притуплены и слабы в сравнении с первыми женскими переживаниями, которые пробудил во мне Вадим. И к тому же, ежедневно убивать нескольких детей и тут же ласкать свое дитя казалось мне тогда каким-то, знаете, безобразным, как бы слишком эгоистичным… не могу подобрать слово. Аборты себе я приноровилась делать сама и делала их спокойно, привычно, с должной профессиональной тщательностью. Так он хотел, и я безропотно подчинялась.
Она на мгновение останавливается, прогоняя непрошеные воспоминания. Они нервируют ее, мешают рассказывать. Она отгоняет их, усмиряет и продолжает говорить:
— Да… Мы с мужем жили хорошо. Я не принимала непосредственного участия в его работе, но чем могла помогала ему. Это были времена подполья, первые годы гражданской войны, и вы понимаете, конечно, что в таких условиях, когда каждую минуту судьба и жизнь Вадима были под угрозой, когда опасность везде подстерегала его, странно было бы и думать о ребенке. Но… инстинкт не победить. Ничто внешнее не может подавить зов природы. Словом — я возвращаюсь к «яблоку раздора». Оно все же появилось у нас.
Я захотела родить ребенка… Понимаете, — это произошло как-то внезапно. Несколько лет я совсем об этом не думала, всегда спешила поскорее избавиться от плода. И вот — представьте себе — мне захотелось. Нет, не захотелось — я необоримо, безумно мечтала иметь ребенка!.. Вадим был категорически против. Действительно, шли первые годы революции — голод, холод, нищета, бои, нервное напряжение жизни. Я вполне согласна, что это было несуразное желание. В тех условиях ребенок не выдержал бы и погиб. Я все это прекрасно понимала, но… при всем том я отчаянно хотела ребенка…
Это принесло нам с Вадимом немало страданий… Теперь все кажется таким давним, таким ничтожным. Разве могли эти страдания сравниться с теми мучениями, которые испытала я потом, когда…
Она прерывает рассказ и настораживается: из коридора, сквозь грубую войлочную обивку, доносится непривычный для нее в такой тишине звук — единственный звук, который имеет право проникать сюда — металлический лязг. Это бряцает оружие. Каждые два часа сменяются часовые у дверей, и тогда громче раздаются шаги нескольких пар тяжелых сапог и бряцает об пол оружие.
Тогда на минуту робко обрывается тишина, прячется в темных углах, — пока за поворотом коридора не стихнут шаги смены.
Она говорит:
— Когда суровые времена миновали, я все же уговорила Вадима. Он долго не соглашался:
«Сможем ли мы — больные, изломанные жизнью люди — родить здорового ребенка? Имеем ли мы право производить на свет калеку, когда жизнь требует здорового, сильного поколения? И напряженный темп работы отрывает нас от семейной жизни. Способны ли мы создать семью?» — говорил он мне…
Я молчала, чувствуя в его словах и правду, и… что-то другое — его эгоизм, его желание жить исключительно своей жизнью и никого туда не пускать, потому что ребенок, конечно, мешал бы его работе — это ясно. Я молчала и молча умоляла… Он согласился.
Тогда-то и началась эта страшная путаница, эта гадостная неразбериха…
Мы узнали, что не можем иметь детей… Сразу же обнаружилась моя вина — частые аборты настолько навредили мне, что я потеряла возможность родить ребенка. Так констатировал врач… Я готова была наложить на себя руки. Я сходила с ума. Мир опротивел мне!.. Но позднее диагноз изменился — однажды Вадим тяжело заболел и совершенно случайно выяснилось, что причина в нем: тяжелая прежняя жизнь, боевые раны, поражение нервной системы — все это дало о себе знать. Он стал инвалидом, он не способен был оплодотворить меня… Что до меня, то давешние операции хотя и сказались на моем организме, но не полностью атрофировали способность к материнству. Я могла бы родить, — при условии гармоничного подбора. Иначе говоря — я еще смогу забеременеть, если найду партнера, вполне импонирующего мне в половом отношении. Таков был приговор консилиума.
Вы догадываетесь, очевидно, что у меня сейчас же мелькнула мысль — найти себе пару, оставить Вадима? И я, стыдя себя, сразу же ее отвергла. Но Вадим, глубоко переживая наше горе, сам выразил эту мысль словами. Это было дико, это было ужасно! Я неистово закричала, забилась в истерике — впервые в жизни. Я ведь так сильно любила Вадима!
Он — сильный, мощный, закаленный мужчина — тоже плакал и мог только целовать мне ноги — благодарный, растроганный и печальный. Он умолял меня простить его за то горе, что он принес мне.
— Мне! Не — нам! Он и тогда считал, что это только мое личное горе, а не наше, общее…
Я продолжала делать аборты. Я должна была их делать, потому что заработки у Вадима были мизерные, а кормить надо было две семьи — моих родителей и стариков Вадима. Можете ли вы понять, какой пыткой стала для меня моя профессия? Ежедневно убивать детей и всем существом, всеми помыслами мечтать, требовать себе ребенка. В приступе ярости и ревности я способна была замучить своих пациенток. Но что я могла поделать со своими муками? Разве что единственное… Да, признаюсь, эта мысль время от времени появлялась… Сперва она ужаснула меня, но после. после я привыкла и холодно раздумывала… Я любила Вадима, я не могла пожертвовать им ради материнства. По своей воле я не могла покинуть его… И я стала часто думать о его смерти. Пусть бы она вмешалась, развязала этот страшный запутанный узел. Я… ждала смерти Вадима. Да — ждала и любила, о… очень преданно любила его!.. Если хотите знать, я иногда даже думала — не убить ли его самой?..
Она вновь умолкает. Ее пальцы мелко-мелко дрожат и все застегивают непослушную пуговицу на блузке. Пуговица расстегнулась и чуть обнажила суховатую, жилистую шею и небольшую ямку на плече. Такие ямки встречаются у легочных больных. Грудь прерывисто и часто вздымается и слегка шевелит небольшой вырез арестантской робы. Она очень волнуется, снова чувствуя боль старой, быть может, затянувшейся раны; но глаза ее не принимают в этом участия. Они вновь онемели, застыли в мертвом фокусе и безучастно глядят на меня. Они неподвижны и не реагируют. Надоедливый луч света от лампы все время безжалостно обжигает зрачки, но они не загораются, хоть и иссушены — ведь слезы не омывают их. Мне становится жаль этих сухих, бесслезных глаз: я незаметно наклоняюсь и тихонько отворачиваю загнутый край абажура. Ничего страшного — мне совсем ни к чему так уж пристально, внимательно разглядывать ее лицо. Я и так замечу все, что мне нужно… Лицо сразу отпрыгивает в тень, луч уже не обжигает зрачки. Это заставляет ее пошевелиться. Она пробуждается от скорбной задумчивости. С благодарностью (так мне кажется) смотрит на лампу и продолжает:
— Я нашла другой выход из этого невозможного положения… Я (она опирается о стол и кладет лицо на ладони) решила изменить ему. Найти себе партнера, от которого смогла бы понести ребенка… Втайне, конечно… А дальше?.. Дальше все очень просто: я постепенно, окольным путем, убеждаю Вадима еще раз сходить к врачу, проверить диагноз: кто знает — может, ошибка? Бывают же ложные диагнозы? Утопающий, помните, хватается за соломинку! Я и должна была изображать такого утопающего, а мой хитроумный обман (ложный диагноз) — стать той самой соломинкой… Он согласится, хотя бы просто для того, чтобы я не докучала ему, и снова пойдет к врачу. А я? Я уговорю врача солгать! Я буду просить его! Я расскажу ему всю правду, все мои страдания! Он поймет. Он согласится.
Ведь этой ложью он излечит мою муку. Он должен понять и принять это!.. Я буду целовать его ноги, я буду ползать перед ним на коленях, я всю жизнь буду работать на него… я… подкуплю его, в конце концов…
И вот. я начала изменять Вадиму, начала искать себе «гармоничную пару»…
Она вдруг затихает и пытается закурить папиросу. Рука осекается и сера долго не дает искры. Когда наконец загорается спичка, огонь долго не переходит на папиросу и опаливает ее черной копотью. Она сосет мундштук громко, с нажимом — так, что даже щеки западают под желтые скулы. Потом окутывается облаком сизого дыма.
Я в это время встаю и тихо прохаживаюсь вдоль стены. Проходя мимо второго зеркала, незаметно прикрываю его занавеской: ее лицо в тени и зеркало ед-вали ли пригодится. Впрочем, мне и так хорошо ее видно. Когда она снова начинает говорить, я, чтобы не мешать ей, снова сажусь.
— Понимаете ли вы, — говорит она, затягиваясь, — какая это была долгая и упорная работа? Долгая и упорная мука?.. Я ежемесячно меняла «любовников», ожидая в конце месяца долгожданных, желанных результатов… Не знаю: то ли диагноз был ошибочным, то ли не так-то просто найти гармонию, но «любовников» мне пришлось сменить немало…