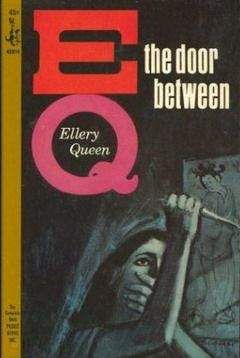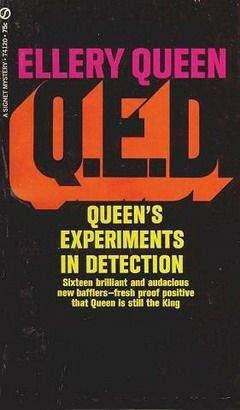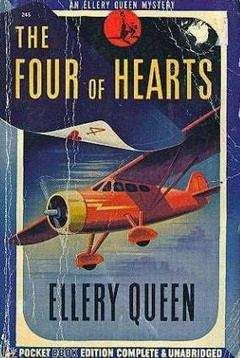Владимир Соколовский - Возвращение блудного сына
Они долго, долго сидели той ночью друг против друга и говорили. Однако недоговоренным осталось очень многое: некоторые события, как давнего, так и последнего времени, старательно обходились, замалчивались; если же все-таки всплывало такое, что нельзя было обойти, голоса волновались и вздрагивали. Когда разговор начал притухать от усталости и неопределенности, Николай встал, подошел к девушке и, опустившись на колени, прижался головой к ее груди. Она очнулась, положила руку на его голову, слегка оттолкнула:
— Не надо. Не надо, Коля. Подожди… подожди, хороший.
Он встал покорно, ушел на табуретку. Девушка сидела, замерев и глядя в одну точку, еще минут двадцать. Вдруг всплеснула руками и заплакала: громко, в голос, по-бабьи. Малахов кинулся к ней — она обняла его обеими руками и стала целовать, быстро и бессвязно причитая.
Проснувшись рано утром, Николай, стараясь не дышать, тихо и осторожно высвободил руку, встал с кровати и, подойдя к окну, отдернул чуть занавеску. Улица с примятой и выщербленной посередине травой, дома в садах и огородах, теплое низкое солнце подсвечивает перистые облака, кусты сирени и акации в палисаднике.
«Вот и ладно. Теперь уж все ладно. Ну и слава богу», — подумал он.
20
Строгаль механического цеха паровозных мастерских т. Бородин М. Я., приняв вызов т. Лозор на свой счет, вносит 2 монеты по 20 бани, 1 монету по 10 бани, 1 монету по 50 бани и монету в 1 лей — все это румынские деньги. Затем 20 пфеннигов германским серебром и 1 пфенниг медный.
Тов. Бородин считает, что никто не должен жалеть денег для помощи узникам капитала.
ОБЪЯВЛЕНИЕПлемянник профессора Венцеля гражд. Р. О. Ридель обходит знакомых своего дядюшки, выпрашивая у них от его имени разные вещи, которые благополучно «перетапливает» затем в магазинах и на барахолке. Профессор просит указать своему племяннику на возможность знакомства его с угрозыском.
В среду вечером Кашин искал на окраине дом баяниста Витеньки. Плутал по кривым переулкам, выбирался из тупиков, злился. Он страшно устал за последние трое суток: щеки ввалились, глаза лихорадочно горели. Однако перед тем, как идти к Гольянцеву, Семен спал целых пять часов и даже постригся в хорошей парикмахерской. Но усталость не снялась, и он приглушал ее злостью. Злился на себя: трое суток, в сущности, вылетели в трубу — разговоры с соседями Вохминых, подругами покойной, глупыми курицами, с попом ее прихода ничего не дали, а, кроме этих разговоров, он успел сделать только одно: послать за подписью Войнарского запрос в уезд, где раньше проживала жена Спиридона Фомича. В губрозыске лучше было не появляться. Когда он зашел к Войнарскому подписать запрос, тот сидел почерневший, страшный и так тоскливо посмотрел на Семена, что захотелось провалиться сквозь пол. Везде было плохо: и со сберкассой, и с Вохминой. Но главным гвоздем в голове сидел предстоящий разговор с Витенькой. Слишком много от него зависело.
Кашину сразу невероятно повезло, он продвинулся, кажется, дальше Баталова, однако пропорционально возрастала и опасность. В конце концов, баянист может быть всего лишь приманкой. «Пусть попробует вилять! Душу выну из кабацкой теребени!» — распалял себя Семен. А когда в одном из переулков увидал знакомую калиточку с большим кольцом на двери — на кольце искусно довольно отлита была львиная морда, — страх ударил в коленки. Семен затоптался перед дверью, оглядываясь. Показалось, что со всех сторон, из всех переулков набегут сейчас бандиты и начнут терзать его здесь, перед этой подслеповатой избушкой; другие хлынут со двора, а лев с ручки будет слепо пучиться и звякать, подбадривая: «Так его! Так! Так!..» И он пожалел, что отказался от страховки. Все-таки легче было бы, если б знать, что где-то поблизости тревожится за тебя Степа Казначеев, который не даст пропасть!
Из проулков, однако, никто не бежал. «Значит, там, внутри», — думал Кашин, ощупывая револьвер. Осторожно дотронулся до львиной морды; она качнулась, звякнув: «Так его, так!» — и он снова отпрянул. Шла мимо баба с коромыслом, засмеялась и сказала:
— Эй ты, тютя! Чего потерял?
— Цыпушку ищу! — вдруг неожиданно для себя ответил Семен и, услыхав собственный голос, развеселился. Он увидал себя со стороны: взъерошенного, враскорячку стоящего перед чужой дверью, судорожно шарящего в кармане.
Он выпрямился и продекламировал, глядя поверх двери:
— О Карабосса! Выведи же меня из затруднительного положения и вразуми, что делать: остаться ли здесь и пугать человечество, или, не добившись толку, благополучно отправиться восвояси?
Постоял, вслушиваясь, словно ожидая ответа, и, схватив ненавистную морду, бухнул ею в калитку.
Хлопнула дверь в доме, кто-то завозился на крыльце. Семен приник к щели. Глазу открылся Витенька в рубашке апаш, белых парусиновых брюках, босиком. Прошлепал к калитке, отворил, пощурился.
— Здравствуйте, — вежливо сказал Кашин.
Баянист кивнул, снова уставился на него.
— Не узнаете? — Агент растерялся. — Помните, в ресторане разговаривали, а потом еще вместе до вашего дома шли?
— A-а! — Витенька оживился, захлопотал. — Из угрозыска! Помню, как же! Теперь вспомнил. Ах, память убогая! — Он хлопнул себя по лбу. — Вылетело, вылетело из головы. Разве упомнишь за всеми нашими делами. Проходите, проходите, ну, просто прелесть, что и вы обо мне не забыли. Приятно, приятно!
Однако глаза его были живые, настороженные, и, уловив их выражение, Семен подумал: «Ну, врешь. Ты ждал меня».
Они обменялись рукопожатиями, и Кашин шагнул за калитку.
Он осторожно, прижимаясь спиной к стенам, обследовал избу, все ее углы, выступы, заглянул за печку. Однако таким застарелым одиночеством повеяло на него от вида убогого музыкантского жилища, что Семен мгновенно повеселел и перестал бояться. Было душно, накурено, шибало в нос чем-то прокисшим. Агент поморщился:
— Надо бы окна раскрыть, проветрить, а то — тьфу, духотища!
Витенька качнулся в его сторону и возглаголал:
— Я тля, тля! Мне самому свежий воздух принципиально проти… вопоказан! А уж вас, коли снизошли, — па-апрашу не роптать-с! Поймите жизнь малых сих! — Он ткнул себя пальцем в грудь.
«Однако!» — подумал Кашин: баянист был пьян. Или показалось? Вот незадача, скажи… Витенька убежал на кухню, вернулся с бутылкой водки, маленькими гранеными стаканчиками. Поставил все на застеленный газетой, стоящий посередине горницы обшарпанный стол, королевским жестом указал на табуретку: «Прра-шу-сс!» Распечатал водку, разлил ее по стаканам, выпил свой, не чокаясь, молча, и стал хлебать из алюминиевой чашки холодный суп. Оторвавшись от еды, спросил:
— В чем дело-с?
— Если вы думаете, что я за этим сюда шел, — Кашин отодвинул стакан, — то вынужден огорчить…
— Разве-с? — улыбнулся в сторону баянист. — Ах, скажите! А я было обрадовался: сижу бобыль бобылем целыми днями, хоть бы, дескать, живая душа навестила! И уж так-то я вам обрадовался: выпьем, думаю, по стопочке, разговоры заведем… Ах, какие интересные могут получиться разговоры! Ведь мы оба люди незаурядные, верно-с?
— За себя не могу сказать. — Семен вздохнул. — Насчет своей незаурядности крепко сомневаюсь.
— И зря, зря! — замахал руками Витенька, словно испугавшись. — Есть, есть незаурядность, и большая-с! В прошлом нашем разговоре немало ее выказали!
— М-да… Интересно, Виктор Федорыч, что за незаурядность вы во мне углядели. Тонкость, что ли?
Гольянцев сник, понурился:
— Я уж думал, ты об этом забыл. Надеялся, дурачок! И ведь знал, что придешь, а все равно надеялся. Эх… — Он снова разлил водку. — Что ж, давай поговорим, если так. О чем, бишь, был тогда разговор?
Кашин перегнулся через стол:
— Мне нужен Лунь. Лунь, понял?
— Не знаю такого. — Витенька повел головой, голос его был равнодушен. — Не знаю.
— Или Черкиз.
Баянист быстро вобрал голову в плечи, театрально выбросил руки ладонями вперед и залопотал:
— Нет, нет! Нет его, понимаешь? Ни для меня, ни для тебя. Впрочем, не знаю, возможно, относительно тебя ошибаюсь. Но для меня — нет, точно! Что ты, боговый, разве ж я себе враг — такими делами играться? Я хоть и ничтожен, а жить люблю-с!
— Чего боишься? Как он узнает, что происходит между нами? Не думаю я, чтобы он за тобой следил.
— А ему и следить не надо, — покривил рот Витенька. — Достаточно, что подойдет, в глаза заглянет, к плечу склонится, понюхает, скажет пару слов, и — нет человека! Полная хана-с. Так что не уговаривай, не пойду я на это дело, душа моя. На Черкиза тебе выхода от меня не будет.
Семен вскочил, рванул ворот:
— Заморочил ты меня, гадюка…
Он повернулся к стене, ткнулся в нее лицом.