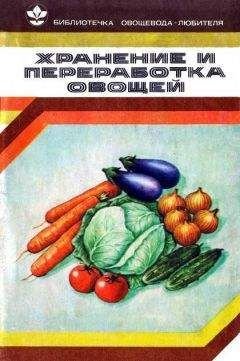Александр Апраксин - Три плута
— Как вошла я в переднюю, барин мне и говорит: «Дай только я за тобой дверь замкну, да пройди за мною сюда!» — то есть к ним в комнаты. Повел он меня в кабинет, сам к столу сел письменному, а стол-то этот весь деньгами уложен. «Считаю, — говорит, — сейчас из банки вынул; проверить надо, сколько процента пришлось, и опять обратно в банку сложить. Потому, — говорит, — тут мильон».
Ольга Николаевна не верила.
— Что ты говоришь! — воскликнула она. — Неужели у него в самом деле мильон? Да откуда, наконец?
— Из банки, барышня милая. А деньги я сама видела. Как есть весь стол уложен. Испугалась я, да и забыла, зачем пришла. А он стал расспрашивать про вас — видно, болит сердце-то! Потом, как опомнилась я немножко от греха-то, от денег-то этих, я ему все и выложила… что, мол, приключилось у нас большое несчастье: молодой барин, который к нам ходил, Анатолий-то Сергеевич, в нехороших делах попался…
— Что же на это Назар Назарович?
— Добрейший барин! — умилилась Елизавета. — Вот уж поистине, можно сказать, простота и доброта ходячая… Уж очень ему Анатолия Сергеевича жалко стало…
— Как так? Ничего не понимаю.
— Даже руками всплеснул, а потом говорит: «Какое несчастье, какое несчастье! Но ты, — говорит, — Лизаветушка, снеси сейчас же от меня барышне Ольге Николаевне письмо, кланяйся им и скажи, что мне даже очень прискорбно, потому ежели теперь такой молодой человек…»
Но Ольга Николаевна уже не слушала Елизаветы; она разорвала конверт и, к величайшему своему удивлению, прочитала следующее:
«Глубокоуважаемая Ольга Николаевна! Несмотря на полученное от Вас строжайшее предписание не напоминать о себе ввиду невозможности исполнить немедленно желание всей моей жизни, я беру на себя смелость адресовать Вам эти строки. То, что я узнал от Вашей служанки, повергло меня в глубокую печаль. Притом я не могу себе представить, чтобы этот молодой человек мог совершить что-нибудь, заслуживающее столь страшной участи. Я не скрыл от Вас, что сам на себе испытал весь ужас напраслины. Кроме того, я вполне понимаю, насколько лично для Вас должно быть ужасно несчастье господина Лагорина. Позвольте же мне помочь, чем я буду в силах. Быть может, нужно внести залог для освобождения несчастного из-под ареста? Я готов и на это. Располагайте мной, так как я действую во имя общечеловеческих принципов, вполне и во всем отстраняя свою личность и свои чувства на второй план. В ожидании Ваших приказаний еще раз выражаю мое искреннее желание остаться Вашим покорнейшим слугою».
Следовала подпись.
Ольга Николаевна отпустила служанку, потом еще раз прочитала письмо, потом еще… еще… Она понять не могла, что за странный человек Назар Назарович. Из всего услышанного от Елизаветы и, наконец, из быстро начертанных им слов было ясно, что о деле Лагорина он узнал только сейчас. Казалось бы, ему следовало радоваться, что этот «хвастун и фанфарон», еще недавно осуждавший и оклеветавший его, теперь попался сам и займет надлежащее место.
Она судила по себе. С того момента, как ее вызвал судебный следователь, она уже возненавидела Лагорина за то, что ее тревожили и могли компрометировать по его вине. Когда же ей сообщили, будто он кому-то передавал, что она была виною его несчастья, так как понуждала его к расходам и мотовству, ее ненависть возросла до крайности.
Она думала, что Мустафетов рассуждает так, как было изложено в его письме, только по незнанию всех подробностей. Но в это же время перед ее воображением ярко выступало благородство Назара Назаровича. С прибавлением к этому рассказов Елизаветы о мильоне личность Мустафетова значительно вырастала в глаза Молотовой; вырастала тем более, что в последние дни ее начинало сильно беспокоить его молчание.
— Лиза! — крикнула Ольга Николаевна. — Дай мне пальто и поедем вместе со мною.
Мысль, на которой остановилась Молотова, заключалась в следующем: она подъедет к квартире Мустафетова и велит Елизавете доложить о себе. Она так и сделала.
Назар Назарович выбежал к ней на самый подъезд, радостно встретил ее, упросил отпустить служанку и привел в кабинет.
Там, на письменном столе, все еще лежали пачки денег. Не без умысла оставил он их тут и только после того, как Ольга Николаевна успела окинуть их взглядом, извинился, что его застали за делом, и стал поспешно укладывать свой капитал в ящики стола.
Живя более хитростью, нежели умом, Молотова поняла, что лучше всего не спрашивать, сколько тут денег.
Мустафетов поспешно, но молча укладывал их и лишь по окончании дела обернулся к ней с вопросом:
— Какое ужасное несчастье! Что же нам теперь предпринять? Как спасти его?
Ольга Николаевна уставила пристальный взор на него, а потом, слегка улыбнувшись, сказала:
— Вы меня удивляете! Вы еще верите в какое-то несчастье, после того как он вас же оклеветал?
— Я не могу мстить тогда, когда человек попадает сам в беду, — ответил Мустафетов, впадая в тон благородства. — Наконец, я хочу еще раз показать вам, как сильна моя любовь к вам.
— Если вы любите меня, Назар Назарович, то можете простить человека, оскорбившего вас лично, но негодяя, кинувшего в меня грязью, скомпрометировавшего меня пред каким-то ростовщиком, который в свою очередь все это рассказал судебному следователю, — вы простить не можете, иначе я могу подумать, что вы не имеете ни малейшего понятия о любви.
— Я не имею понятия? — горячо воскликнул он. — Снова повторяю вам: это покажет время. Но в чем же дело? Неужели в самом деле он решил затронуть вас? Как он смел и что мог он сказать?
— Представьте себе, что он выдумал? Он рассказывает теперь, будто я запутала его. Он сказал одному ростовщику, что я ввела его в долги. Вы сами знаете, что у него никогда никаких денег не бывало.
— Да ведь он сам сознавался, что отец давал ему очень мало.
— Ну вот! А при таких условиях не суются делать траты, не ездят по ресторанам, не покупают лож в театрах, не привозят букетов и ананасов. Разве я требовала у него этого? Просила его?
— Конечно, нет!
— Вы это прекрасно знаете. Мне ничего этого не было нужно, потому что вы меня страшно баловали. Я всегда знала, что у вас огромное состояние! — Молото-ъва увлеклась до того, что ей действительно теперь казалось, будто она говорила правду. — Помилуйте, — продолжала она, — могла ли я когда-нибудь думать, что этот человек, почти еще мальчишка, при каждом случае клеветавший на вас, всячески старавшийся очернить вас в моих глазах, недавно еще говоривший, что вы кончите в Сибири, — делает фальшивые векселя?
— Неужели? — с возмущением спросил Мустафетов.
— Да ведь я забываю, что вы не знаете подробностей дела.
— Ничего не знаю! Я был как громом поражен, когда ваша Лиза рассказала мне, что его арестовали. Как, за что — понятия не имею.
— Слушайте же, — заговорила Молотова в волнении, придвигаясь к нему. — Надо вам сказать, что Лагорин постоянно приставал ко мне со своими маленькими услугами. Отказать ему я не могла просто потому, что не хотела обидеть. Между тем, оказывается, он добывал деньги каким-то обманом: в одном месте займет и не отдаст, в другом то же самое, когда же никто верить не стал, он придумал такую штуку: составил фальшивый вексель на четыреста рублей…
— Всего на четыреста рублей?
— Да, представьте себе, какой дурак! И сумма-то мелочная, и попался-то сразу! Но это все бы еще ничего; ну, запутался, попался, остается только признаться, чистосердечно раскаяться — и дело с концом.
— Конечно, присяжные заседатели могли бы оправдать его по молодости лет и легкомыслию.
— Вот то-то же и есть! А он лжет, когда дело совершенно ясно, и только других старается запутать.
— Как это неблагородно!
— Ужасная низость. А вы после этого предлагаете еще какой-то залог за него внести. Ведь он тогда прямо скажет, что вы научили его преступлению. Я и то боюсь, как бы в самом деле ему не поверили, что я вводила его в расходы.
— Ну, положим, это дело совершенно ясно, и я теперь понимаю, до чего вы возмущены.
— А знаете, что меня больше всего сердит в нем? — спросила Молотова. — То, что он всячески старался отстранить меня от вас! Он старался и почти добился…
— Неужели вы говорите искренне? — влюбленным шепотом спросил Мустафетов, взяв ее руку и еще более приближаясь к ней.
— Очень искренне, — ответила Молотова и вдруг совершенно неожиданно склонилась головою на его плечо.
Это движение ласки, доверия и раскаяния вызвало в армянине бурю ликований. Он не видел, что глаза Ольги были направлены на письменный стол, «где хранился мильон», или, по крайней мере, очень много денег, обладателем которых был он. В порыве безумной страсти он стал обнимать и целовать ее.
Молотова подчинялась этим ласкам пассивно, но потом вдруг решительным движением освободилась из его объятий.