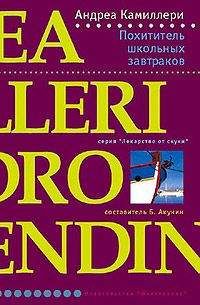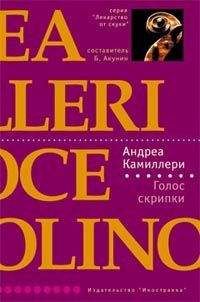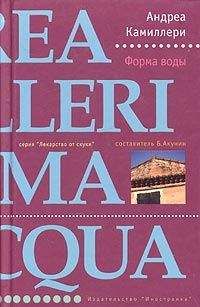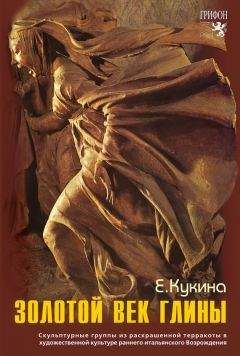Андреа Камиллери - Собака из терракоты
На пороге начальник полиции окликнул его:
– Ах да, послушайте, моя жена чувствует себя гораздо лучше. Вас устраивает субботний вечер? Нам многое нужно обсудить.
Он нашел судью Ло Бьянко в необычно хорошем настроении, глаза у него горели.
– Вы отлично выглядите, – не смог удержаться, чтоб не сказать ему, комиссар.
– Да-да, чувствую я себя просто отлично.
Судья оглянулся вокруг, принял заговорщицкий вид, наклонился поближе к Монтальбано и проговорил тихо:
– А знаете, оказывается, у Ринальдо на правой руке было шесть пальцев.
Монтальбано на мгновение обалдел. Потом он вспомнил, что уже много лет, как судья посвятил себя созданию капитального труда «Жизнь и деяния Ринальдо и Антонио Ло Бьянко, присяжных при университете города Джирдженти во времена короля Мартина-младшего (1402–1409)», потому что вбил себе в голову, будто те приходились ему родственниками.
– Вправду? – отозвался Монтальбано с радостным изумлением. Разумнее было ему потакать.
– Так точно. Шесть пальцев на правой руке.
«Вот уж кто мог дрочить в полное удовольствие», – кощунственно вертелось на языке у Монтальбано, но он сумел сдержаться.
Судье он рассказал все об оружии и об убийстве Мизураки. Он изложил ему также и стратегию, которой собирался следовать, и попросил о разрешении поставить на прослушивание телефоны Инграссии.
– Сейчас я вам его дам, – сказал Ло Бьянко.
В другие минуты он стал бы высказывать сомнения, чинить препоны, пророчить неприятности: в этот раз, счастливый открытием шести пальцев на правой руке Ринальдо, он предоставил бы Монтальбано разрешение пытать, сажать на кол, жечь на костре.
Он пошел домой, надел плавки, долго купался, возвратился домой, вытерся, переодеваться не стал, в холодильнике не было ничего, в духовке красовался противень с четырьмя гигантскими порциями макаронной запеканки, блюдо, достойное Олимпа, он уплел две, засунул противень обратно в духовку, завел будильник, заснул, как убитый, на час, поднялся, принял душ, надел уже перепачканные джинсы и рубашку, явился в управление.
Фацио, Джермана и Галлуццо ждали его, одетые в затрапез, и, как только он показался, подхватили лопаты, кирки и мотыги и затянули старинную песню батраков, потрясая в воздухе инструментом:
– Уже приспело время – сбросим хозяев бремя!
– Ну какие вы все-таки сволочи! – был комментарий Монтальбано.
У входа в пещеру уже находились Престия, шурин Галлуццо – журналист и оператор, который притащил с собой два софита на батареях.
Монтальбано волком посмотрел на Галлуццо.
– Знаете, – сказал тот краснея, – потому как в прошлый раз вы ему дали позволение…
– Ладно, ладно, – отрезал комиссар.
Вошли в пещеру, где было оружие, и затем, по указаниям комиссара, Фацио, Джермана и Галлуццо принялись отваливать камни, которые были словно припаяны друг к другу. Трудились хороших три часа, и комиссар с ними; Престия и оператор работали тоже, сменяя троих полицейских. Наконец кладка была разобрана. Как и предрекал Балассоне, они ясно увидели коридорчик, остальное терялось во тьме.
– Иди ты, – сказал Монтальбано, обращаясь к Фацио.
Тот взял фонарь, пополз по-пластунски и исчез. Через несколько секунд они услышали его изумленный голос:
– Бог ты мой, комиссар, идите посмотрите!
– Вы зайдете, когда я вас позову, – сказал Монтальбано остальным, но в особенности имея в виду журналиста, который, заслышав Фацио, вскочил и совсем было приготовился бросаться на живот и ползти.
Коридорчик был практически длиной в его рост. В мгновение ока он оказался по ту сторону, засветил свой фонарь. Вторая пещера была меньше первой, и сразу возникало ощущение, что в ней совершенно сухо. В самом ее центре лежал ковер, все еще в хорошей сохранности. В левом дальнем углу ковра стояла глиняная плошка. Симметрично ей, в правом – корчага. Посередине ближней к выходу кромки ковра, образуя с плошкой и корчагой перевернутый треугольник, замерла в выжидательной позе собака-овчарка из терракоты размером с настоящую. На ковре два высохших и пожелтевших тела, как в фильмах ужасов, сплелись в объятии.
Монтальбано почувствовал, что у него пресеклось дыхание, дар речи пропал. Кто его знает почему, ему вспомнилась парочка, которую он застал в соседней пещере, когда она занималась любовью. Его молчанием воспользовались остальные, не выдержав, они друг за другом пробрались в пещеру. Оператор зажег лампы, начал лихорадочно снимать. Все молчали. Первым пришел в себя Монтальбано.
– Сообщи криминалистам, судье и доктору Паскуано, – сказал он.
Даже не повернулся к Фацио, давая ему распоряжения. Он стоял себе, будто зачарованный, глядя на эту сцену и страшась, что малейшее движение может пробудить его от сна, в котором он в эту минуту пребывал.
Глава двенадцатая
Очнувшись от чар, которые его буквально парализовали, Монтальбано принялся во весь голос кричать, чтоб все стояли по стенам, не шевелились, не топтали в пещере землю, которая была припорошена мельчайшим красноватого цвета песком, проникшим сюда непонятно откуда, – может, он покрывал и стенки. Этого песка и следа не было во второй пещере, не исключено, что именно он каким-то образом предохранил трупы от разложения. Это были мужчина и женщина, возраст их на глаз определить было невозможно: что они разного пола, комиссар догадался по телосложению, не на основании, конечно, половых признаков, которых больше не существовало, время их уничтожило. Мужчина лежал на боку, его рука покоилась на груди женщины, та лежала на спине. Они, следовательно, обнимали друг друга и продолжали бы обнимать вечно: и правда, то, что некогда была рукой мужчины, словно бы срослось, сплавилось с плотью ее груди. Хотя доктору Паскуано, конечно, не составило бы труда их разделить. Под сморщенной пергаментной кожей проглядывала белизна костей, тела иссохли, превратились в тонкую оболочку. Казалось, оба смеются: губы истончились и подтянулись к самым основаниям зубов. Рядом с головой мертвеца была плошка, внутри нее – какие-то кружочки, рядом с женщиной стояла глиняная корчага, вроде тех, что когда-то крестьяне носили с собой, в них вода долго оставалась прохладной. У ног пары – собака из терракоты. В длину около метра, краски сохранились прекрасно, – серая с белым. Мастер представил ее в такой позе: передние лапы вытянуты, задние – подобраны, пасть полуоткрыта, из нее высовывается розовый язык, глаза бдительные, – одним словом, она как бы лежит свернувшись, но вместе с тем настороже. В ковре кое-где были дырки, в которых виднелся все тот же песок, но могло статься, что прохудился он раньше и в таком состоянии попал в пещеру.
– Выходите все! – приказал он, и, обращаясь к Престии с оператором, добавил: – А главное, погасите лампы.
Внезапно он сообразил, какой ущерб причиняет жар от софитов, да и само их присутствие. Он остался в пещере один. Светя себе фонариком, внимательно глядел на содержимое плошки, круглые штуковины оказались металлическими монетами – потемневшее серебро и медь. Осторожно двумя пальцами он взял одну, которая, показалось ему, сохранилась лучше: это была монета в двадцать чентезимо 1941 года, одна сторона изображала короля Виктора Эммануила Ш, другая – женский профиль с ликторской связкой. Когда он направил свет на голову мертвеца, то заметил, что в виске у того есть отверстие. У него был слишком большой опыт, чтоб не догадаться, что это результат выстрела: самоубийство либо убийство. Но если тот покончил с собой, куда девалось оружие? У нее на теле, напротив, не было никаких следов насильственной смерти. Комиссар остался в задумчивости, оба были обнажены, но одежды в пещере не было видно. Что это значило? Свет фонарика разом потух, не пожелтев и не ослабев предварительно, – кончилась батарея. Монтальбано на мгновение ослеп, ему не удавалось сориентироваться. Чтоб не навредить, он уселся на песок, поджидая, пока его глаза привыкнут к темноте; через некоторое время он наверняка должен был завидеть еле различимый свет там, где открывался лаз. Однако ему было достаточно этих нескольких секунд полной тьмы и тишины, чтобы почуять какой-то необычный запах, который, он был в этом уверен, ему уже встречался прежде. Он напрягся, чтобы вспомнить, где именно, хоть бы даже потом это оказалось совсем неважно. И поскольку он инстинктивно, с тех еще пор, когда был мальчишкой, старался подобрать цвет к каждому поразившему его запаху, то сказал себе, что этот был темно-зеленым. По ассоциации, он вспомнил, где ощутил его впервые: он был в Каире, внутри пирамиды Хеопса, в коридоре, куда запрещался вход туристам и куда любезность друга-египтянина позволила попасть только ему одному. И внезапно он почувствовал себя швалью, нестоящим человеком, у которого нет ничего святого. Утром, застав ребят, которые занимались любовью, он оскорбил жизнь, теперь, перед двумя телами, которые навсегда должны были остаться укрытыми от глаз в их объятии, оскорблял смерть.