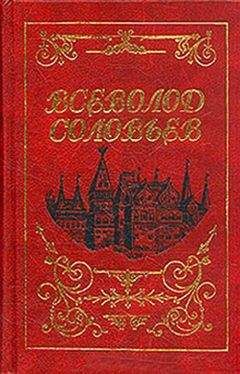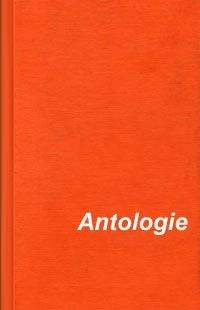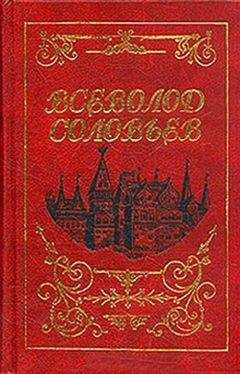Антон Французов - Нешкольный дневник
— А, соску еще одну пригнали! — Лицо у него синее было, как от удушья. — Ты, фраерок, образом не свети, все, базарю, глянцево будет, — кивнул он Генычу, который к ним вплотную подошел и разглядывал клиентуру.
Мне все это сразу не понравилось, особенно если учесть, что мужик со шрамом не пьяный был, а вмазанный скорее — глаза совсем безумные. Геныч, кажется, то же самое испытывал, потому что сказал Федорчуку:
— Я, Федя, тебя знаю, у нас с тобой всегда все, как говорится, пучком было… да только давай сразу обговорим.
— Гости мои не нравятся, что ли? — буркнул тот, и я подумала, что и ему самому гости, видно, не нравятся. — Не гнои базар, сутер, оставляй телку, бобы хавай и вали.
Геныч насупился:
— Ты, Федя, не понял. Если ты вздумал групповичок зарядить, так с Катькой это не прокатит, сам знаешь. Она не «сикуха» какая-нибудь.
— На себя беру ее, — ответил тот, — на два часа. Базарю. Пишусь, бля.
— А гости твои как же?
— А на гостей в сауне еще есть шмары, — сказал Федорчук и выпил стакан водки, а потом вдруг врезал кулаком по столу так, что подлетели стаканы и тарелки, и заревел: — Ты, сутер, непонятки не косорезь, бля! Тебе лавэ платят, чтобы ты телок по заказам раскидывал, а не пел нам тут сладко, как Муслим Магомаев!
Геныч оторопел, я видела. Никогда еще с ним Федорчук так не разговаривал. То, что начальник местной охраны был пьян, это ничего, и раньше он по ночам не чаи гонял. Геныч подобрался весь, голову в плечи въежил и заговорил осторожно:
— Федя, ты меня знаешь. У нас правило: один клиент — одна девочка. Групняк не обслуживаем. Кому-кому, а тебе это хорошо известно.
— Попалился Федорчук, — хмыкнул мужик со шрамом, щуря на меня остекленелые глаза, — с проститутского мясца купоны стрижешь? Не в падлу так керосинить, что…
В этот момент открылась дверь, ведущая в душевые, оттуда в клубах пара вывалила чья-то тощая, смешно ковыляющая фигурка. За ней — еще одна, явно женская и необъятно просторная в бедрах. Гиппопотам, не соблюдающий диеты. Геныч продолжал разруливать нежданную непонятку с Федорчуком, а я уже ничего не слышала, потому что, широко раскрыв глаза, смотрела на вышедшего из душевой колченогого мужика и с ним бегемотиху.
Потому что это были мой ненаглядный братец и его сучка, Варя-Николь. Эта была совсем голая, распаренные сиськи чуть ли не до пупка свисали. Братец был чудовищно, жутко пьян, но меня узнал сразу, потому что заорал, ничуть не удивившись моему появлению здесь:
— А, сеструха-а? Клева-а, клева-а! Значит, не одну Колю переть будем да блядей залетных! Что… слабо братцу отсосать?
У меня сразу тошнота подкатилась, как представила грядущие перспективы. Мало того что двое «расписных» (вот про кого тот водила сказал — «откинулись недавно»… с зоны откинулись-то, вот что он в виду имел!), так еще и брательник со своей тварью, которая тут, видно, всех уже через себя пропустила, но не удовлетворила. Под дикого, только что со срока откинувшегося уркагана лучше не попадать, это я твердо знаю. Они как голодные, так накинутся, во всех позах навертят, через все имеющиеся природой отверстия попользуют, задницу порвут, и вообще <перечеркнуто> Я круто развернулась на месте и бросила через плечо, обращаясь к Генычу:
— Все, пойдем отсюда, пока не поздно…
Геныч растерялся. Кажется, в первый раз я видела его таким потерянным, с блуждающим взглядом. Не ожидал он в цивильной «Карусели» такое.
Попали. Рвать когти надо было сразу.
Однако же Геныч по-своему мыслил, только теперь, по прошествии времени, я поняла, о чем он тогда думал. Ну уехали бы мы с заказа, так «мама», Ильнара Максимовна, тотчас же Генычу на пейджер навертела бы, что уважаемый человек из «белого» списка, Федя Федорчук то есть, недоволен и нервничает, а оттого неприятности быть могут. В первую очередь у самого Геныча: бабло, по расчету ему полагаемое, подчистили бы штраф-пяками за срыв заказа без уважительной причины. Скостилось бы не слабо. Так что Геныч меня за плечо придержал и сказал:
— Погоди, Катерина. Чего это ты? Заказ на два часа был, так что в пять минут третьего я за тобой приеду. Федя у нас старый клиент, все в норме.
Я видела, его трясло. Обоссался, сутер поганый! Еще бы <нрзб>
— Вы только, ребята, того… полегче с девочкой, — выговорил Геныч. — Это самое… она же…
— Что-что… ребята? — перебила его я. — Ты же говорил, что один Федя…
— Наглая у тебя дырка, — сказал, обращаясь к Генычу, синерожий (братец на заднем плане кивал головой, раскачиваясь с. ней в такт, как будто его чугунный черепок перевешивал: да, дескать, бля. Она такая). А синерожий: — Если соска начинает тявкать, не к добру это. Надо дырку твою покупную, слышь, заткнуть.
«Дырка» — это он про меня. Я давно вышла из того возраста, чтобы обижаться на подобные высказывания (это говорит семпадцатилетняя девчонка! — Изд.), но как-то подкатило к горлу оттого, что такой обмылок человечества говорит про меня непотребства. Я метнула в него взгляд, страха не было совершенно, только холодное бешенство. И тут я увидела на его боку, с которого давно сползла простыня, полузатертую синюю наколку «Машка с трудоднями» (в оригинале дневника нарисована корона с кривой пятиконечной звездой поверх, а на короне надпись кривыми и крупными печатными буквами: ЬШЛКА, а чуть ниже, вне контура короны — С ТРУДОДНЯМИ; что означает — об этом ниже. — Изд.), он проследил направление моего взгляда, подскочил как ужаленный и, схватив со стола нож, метнул в меня.
— Раскочерыжу!!
Федя Федорчук, который до того момента сидел в позе «салат да будет вам пухом», то есть склонив лицо почти до самой своей тарелки, схватил ублюдка за руку и хотел было что-то сказать… ему было что сказать, потому что творимое синеро^ жим иначе как беспределом не назовешь, но не успел. Потому что второй, тот, что с безумными, провалившимися глазами и шрамом через все лицо, взял со стола еще один нож и коротко, без замаха, всадил в ногу Федорчуку:
— Не торкайся, Федя. Ты сам как сутер.
И провернул нож в ране. Федорчук даже закричать не смог, он захлебнулся от боли, а Геныч крикнул мне:
— Дергаем!!
Не успел. Сбоку, словно черт из табакерки, подскочил Мой братец и ударил Геныча вилкой, которую он схватил со стола. Геныч простонал: «Да что же вы творите, су-у-у…» — и упал на колени, а братец, ударив его ногой, стал на Геныча мочиться.
Меня даже сейчас трясет, когда я вспоминаю все последующее. Тем больше оснований описать поподробнее. Потому что у меня есть такая скверная привычка: до отказа бередить свою болячку. Если болит зуб, воткнуть в дупло спичку и копаться до того, как ослепительно дернет, отдавая в скуле и ухе, замученный нерв. Если ноет память, то, вот как сейчас, ворошить угли. Все равно прорвется, как трава сквозь асфальт, все равно.
Геныч упал лицом на пол и дергался, как будто к нему время от времени прикладывали ток — как ко мне в той больнице, со Степанцовыми и Венями Корженевичами. Он поднял на меня искаженное болью лицо, с его головы текло — мой братец <перечеркнуто> а я застыла на месте, потому что в ноги вступила такая жаркая ватная слабость, что я едва устояла. Жаркий саунный воздух бросился в голову: меня схватили в охапку и попытались бросить на деревянный пол у входа в парное отделение. Двое мужиков, еще сохраняющих в себе что-то от людей, сейчас выли от боли, Федорчук с развороченным коленом и Гена Генчев с вилкой в почке <нрзб> а я осталась одна перед троими удолбленными отморозками, ни с того ни с сего затеявшими кровавую бойню, и жирной Варей-Колей, которая хватила водки и теперь пинала меня ногами.
Я сопротивлялась, но недолго: ублюдок со шрамом встал из-за стола с окровавленным ножом, которым он столь неожиданно продырявил Федорчуку ногу, и спокойно, чуть хрипловато процедил:
— Не кипешись, соска. Если не хошь, каэ-э-эшна, чтобы я тебе рожу пером пописал. Видишь вот, как у меня. Ты еще краше будешь, если что. Ты не бойся, шалава. Сделаешь все что надо и свободна. Кирдык, сдери с нее шмотье.
По тому, с какой готовностью дернулся на это мой брат, я поняла, что именно он носил славное прозвище Кирдык:
— Ща, Слон. Моя сеструха — она лялька мясная. Ща у всех отгребет. А ну-у…
Помощь пришла неожиданно. Федя Федорчук, на одной ноге поднявшись из-за стола, поднял его… посыпались тарелки, ложки, бухло и закусь… и швырнул столом в спину изуродованного шрамом Слона. Удар был такой силы, что Слон рухнул как подкошенный, сбив с ног также и синерожего Машку. Тому повезло еще меньше, чем Слону, потому что углом стола ему попало прямо в ухо, отчего он, кажется, вырубился. Слон барахтался под обломками стола, страшно матерясь.
— Гниды опущенные!.. — прохрипел Федя Федорчук с ненавистью и сделал шаг вперед, перенеся тяжесть тела на раненую ногу. Да тут же и повалился на колени. Он взвыл так, что у меня заложило уши, потом прополз до двери в душевую и прохрипел, глядя на меня: — Сюда, дура… сюда! Тут дверь на щеколду… на щеколду!..