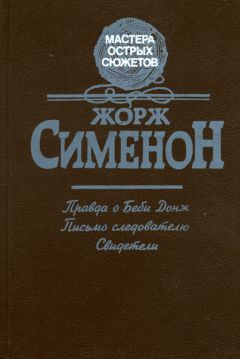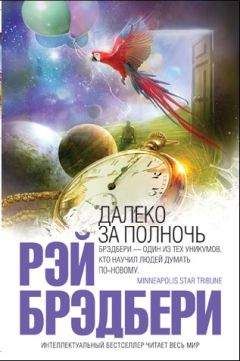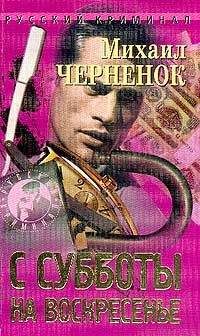Жорж Сименон - Правда о Бэби Донж
После полудня зайчик перемещался на другую стену и полз по фотографии, изображающей съезд фабрикантов-кожевников в Париже. На снимке был и отец Франсуа; он стоял, скрестив руки на груди.
— Феликс, универмаги Нанси расплатились?
— Пришлось выколачивать, но теперь все в порядке.
Кабинет — единственная комната в доме, где ничего не изменилось. У Донжей были в разных филиалах оборудованные по-современному кабинеты, но этот, еще отцовский, как бы олицетворял отправную точку всей деятельности братьев. Стены были оклеены давно пожелтевшими обоями в полоску. Франсуа сохранил письменный стол отца, покрытый темной кожей, с лиловыми чернильными пятнами. Над столом висела полка с отделениями для папок.
Прямо перед собой Франсуа повесил портрет отца: длинные усы, густая шевелюра, жесткий крахмальный воротничок и черный галстук, который ремесленники повязывали, наряжаясь по-праздничному. Раньше фотография отца висела в спальне на одной стене с портретом матери.
Затем в дом вошла Беби и заговорила о его обновлении…
Словом, портреты были перенесены в кабинет — фотография матери висела на другой стене, напротив стола Феликса. Стулья с плетеными сиденьями, которые, сколько помнил Франсуа, всегда стояли здесь… Запах…
Франсуа медленно — он не мог сделать это сразу — вступал во владение своим домом, проникался его атмосферой, обретал в нем себя — и вдруг этот запах…
— Я положила на стол письмо — оно лично вам.
Мадам Фламан, черт возьми! Он забыл запах своей секретарши. Мадам Фламан, полная рыжеволосая женщина с живыми глазами, влажным ртом, высокой грудью и крутыми бедрами была очень потлива.
Не из-за нее ли в самом начале…
Конверт, присланный из Довиля,[8] был надписан почерком Ольги Жалибер, но Франсуа не спешил его распечатывать. Феликс за своим столом разбирал утреннюю почту.
Как-то месяца через два после свадьбы, тоже утром, Беби в легком шелковом платье спустилась к мужу в кабинет.
— Можно?
Феликса не было… Мадам Фламан сидела на своем месте. Она быстро, может быть, слишком быстро, встала, поклонилась и направилась к двери.
— Куда вы? — спросил Франсуа.
— Я полагала…
— Останьтесь. Что случилось, малышка?
Беби раньше почти не бывала здесь и теперь внимательно рассматривала обстановку.
— Я просто зашла поздороваться с тобой. А, вот ты где развесил портреты!
Он заметил, что, проходя мимо секретарши, жена нахмурилась — наверно, ее шокировал запах.
В полдень, когда они вдвоем завтракали за круглым столом в столовой, Беби спросила:
— Разве так необходимо, чтобы эта девушка сидела в твоем кабинете?
— Мадам Фламан — замужняя женщина. Шесть лет она состоит у меня секретаршей. Она в курсе всех наших дел.
— Не понимаю, как ты можешь терпеть такой запах.
Вероятно, все их беды в значительной степени объясняются засевшей у него в голове мыслью, что жена не способна ни слова сказать, ни шагу ступить без умысла. Она говорила спокойно, в упор глядя ему в глаза, как в Руайане. Последние ее слова и вовсе разозлили его.
— Впрочем, тебе виднее.
— Разумеется.
Разве это не доказывает, что у нее была задняя мысль?… Но теперь, столько лет спустя, он сомневался так ли уж это бесспорно? Несколько раз по просьбе Беби Феликс провел ее по всем помещениям. А в следующее воскресенье утром, когда Франсуа один заканчивал срочную работу, она в муслиновом платье вошла в кабинет.
— Я тебе не помешаю?
Беби расхаживала из угла в угол. Иногда он замечал, как блестят ее наманикюренные ногти: каждое утро добрых полчаса она ухаживала за ними.
— Скажи, Франсуа.
— Слушаю.
— Ты не находишь, что я могла бы тебе помогать.
Он посмотрел на нее и нахмурился.
— А что бы ты хотела делать?
— Работать с тобой в кабинете.
— Вместо мадам Фламан?
— Почему бы нет? Если дело в переписке на машинке, то я быстро научусь. В Константинополе у меня была портативка. От нечего делать я печатала свои письма и…
С ее-то лакированными ногтями и воздушными, как крылья бабочки, платьями! Она будет спускаться в кабинет в десять-одиннадцать утра, благоухая ароматными солями для ванной и косметическими кремами.
Итак, она ревнует к мадам Фламан!
— Это невозможно, малышка. Понадобятся годы, чтобы ввести тебя в курс дел. К тому же это место не для тебя.
— Прости. Больше об этом не буду.
Он мог бы добавить несколько ласковых слов, но не сделал этого. Не поднялся даже из-за стола, не окликнул ее, когда она выходила из кабинета, чуточку слишком напряженная и нарочитая.
Нет, нельзя потакать такому ребячеству, иначе совместная жизнь станет невыносимой.
Четверть часа спустя он услышал, как она расхаживает по спальне. Чем она там занимается? Наверное, делает замеры, подбирает обивку. Это было как раз в то время, когда она задумала обновить дом. Уже были перенесены портреты отца и матери. По вечерам Беби листала каталоги, отбирала образцы.
— Что ты скажешь об этом шелке, Франсуа? Он очень дорогой, но это единственный оттенок зеленого…
Зеленый цвет сладкого миндаля — ее любимый.
— Решай сама. Ты же знаешь, мне все равно.
— Мне хотелось бы знать твое мнение.
Его мнение! Вот оно: дом лучше оставить таким, как он есть. Был ли он не прав, что откровенно не выложил ей это? Пожалуй, да. Но предоставляя ей возможность тешиться, как ребенку, он охранял свой покой.
Франсуа не любил, когда она задумывалась: ему подчас было трудно следить за ходом ее мысли. Вдобавок он терпеть не мог сложностей, а она, как нарочно, все усложняла.
Взять, к примеру, не то вторую, не то третью неделю по их возвращении из Канна. Из старой мебели они еще ничего не заменили. Супруги спали в большой родительской кровати орехового дерева в комнате, оклеенной обоями в цветочек. Однажды рано утром, когда в соседнем дворе запел петух, Франсуа проснулся, почувствовав что-то непривычное. Встревоженный, он несколько минут лежал неподвижно, затем открыл глаза и увидел, что Беби сидит рядом на постели и смотрит на него.
— Что ты делаешь?
— Ничего. Слушаю, как ты дышишь. Дыхание у тебя тяжелее, когда ты лежишь на левом боку.
Это не привело его в хорошее настроение.
— На левом я всегда плохо сплю.
— Знаешь, о чем я думала, Франсуа? О том, что отныне мы всегда будем жить вместе, вместе состаримся, вместе умрем.
Хрупкая и тоненькая в ночной рубашке, она рассуждала с серьезным видом, а ему хотелось спать — было только пять утра.
— Я думала: как жаль, что я не знала твоего отца.
Нисколько не жаль — напротив, к счастью: суровый папаша Донж плохо принял бы такую сноху. Неужели она этого не понимает? Разве она не видела фотографий длинноусого кожевника с сурово скрещенными на груди руками?
— Ты спишь?
— Нет.
— Я тебе надоедаю?
— Нет.
— Я хочу попросить тебя об одной вещи. Дай слово, но только если решишь его сдержать. Обещай, что бы ни случилось, всегда быть со мной искренним. Обещай всегда говорить мне правду, даже если она огорчит меня. Понимаешь, Франсуа, слишком гадко прожить во лжи бок о бок всю жизнь. Если разочаруешься во мне, ты должен сказать. Если разлюбишь — тоже, и каждый из нас пойдет своим путем. Если изменишь мне, я не рассержусь, но хочу знать об этом. Обещаешь?
— Странные у тебя мысли в такую рань!
— Я давно об этом думаю. С тех пор, как мы поженились. Ты не хочешь дать слово?
— Нет, почему же.
— Посмотри мне в глаза. Я должна видеть, что это всерьез и я могу на тебя положиться.
— Обещаю. А теперь спи.
Вероятно, она уснула не сразу, но в десять утра еще спала — безмятежнее, чем обычно.
— Мадам Фламан…
— Да, месье.
— Вызовите кладовщика. Велите ему поставить ваш стол рядом.
— В чулане?
— Да. Пусть уберет оттуда свои метлы и ведра. Для них найдется место в сарае, во дворе.
Франсуа увидел, как дрогнула и выпятилась нижняя губа секретарши. Он посмотрел на цветы на своем столе, а когда поднял глаза, взгляд их стал еще холоднее.
— Сейчас?
— Да, сейчас.
— Я что-нибудь сделала не так?
Именно в такие минуты — ровный голос, бесстрастное лицо, стеклянные глаза — он был особенно страшен.
— Я этого не говорил. Позовите кладовщика, и пусть поторопится.
Франсуа встал, подошел к окну, прижался к стеклу лбом. Отсюда он видел набережную, по которой ходил еще ребенком.
Прошло так много времени, что уже невозможно точно установить, в каком порядке все происходило. Сперва утренний разговор и пресловутое обещание, затем мадам Фламан с ее запахом, потом странная мысль — работать секретаршей в кабинете мужа. Она ревновала его не только к женщинам, но и к работе, ко всему, что было в нем и не связывало с ней. Вот как он тогда судил о Беби.