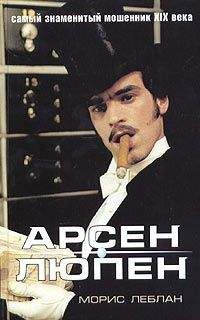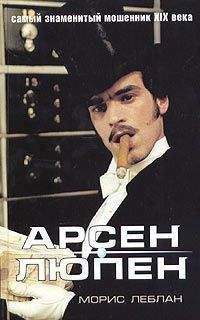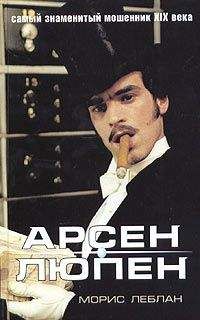Морис Леблан - Арсен Люпен – джентльмен-грабитель (сборник)
Пока продолжалось жестокое и последовательное изложение мельчайших доказательств, ни один мускул не дрогнул на ее лице, ни возмущение, ни сомнение не нарушили ясности ее чистого взгляда. О чем она думала? Главное – что она собиралась сказать в ту торжественную минуту, когда ей придется отвечать, когда придется защищаться и разрывать железное кольцо улик, в которое ее так ловко заковал Херлок Шолмс?
Эта минута наступила, но девушка продолжала молчать.
– Говорите, скажите же что-нибудь! – воскликнул господин д’Эмблеваль.
Она так и не заговорила.
Он настаивал:
– Одно только слово оправдания… одно только слово протеста – и я вам поверю.
Она так и не произнесла этого слова.
Барон пересек комнату и снова заговорил, обращаясь к Шолмсу:
– Да нет же, мсье Шолмс! Я не могу поверить, что это правда! Бывают невозможные преступления! И это преступление противоречит всему, что я знаю, всему, что я видел в течение целого года. – Он положил руку на плечо англичанина. – А вы сами, мсье… Вы абсолютно и бесповоротно уверены, что не ошибаетесь?
Шолмс колебался, как человек, которого застали врасплох и он не готов моментально ответить. Однако он улыбнулся и сказал:
– Только человек, которого я обвиняю, мог благодаря занимаемому в вашей семье положению знать, что в еврейской лампе находится это великолепное украшение.
– Я не хочу в это верить, – прошептал барон.
– Спросите сами.
Действительно, это было единственное, чего он не попытался сделать, испытывая безоговорочное доверие к девушке. Однако нельзя было и дальше не замечать очевидного.
Барон подошел к Алисе Демэн и спросил, глядя ей в глаза:
– Это вы, мадемуазель? Это вы взяли драгоценность? Это вы переписывались с Арсеном Люпеном и организовали кражу?
Она ответила:
– Да, господин барон, это я.
Она не опустила головы. На ее лице не было заметно ни стыда, ни стеснения.
– Возможно ли это? – прошептал господин д’Эмблеваль. – Я никогда бы не подумал… вы – последний человек, которого я стал бы подозревать… Как вы осуществили это, несчастная?
Она ответила:
– Я сделала то, о чем рассказал господин Шолмс. В ночь с субботы на воскресенье я спустилась в будуар и взяла лампу, а на следующее утро отнесла ее… этому человеку.
– Да нет же, – возразил барон, – то, о чем вы говорите, невозможно!
– Невозможно? Почему?
– Потому что утром я нашел дверь будуара закрытой на засов.
Она покраснела, потеряла самообладание и взглянула на Шолмса, как будто просила у него совета.
Шолмс выглядел пораженным смущением Алисы Демэн едва ли не больше, чем замечанием барона. Так ей нечего ответить? Признания, на которых основывались объяснения Шолмса о краже еврейской лампы, маскировали ложь, немедленно разрушавшую весь анализ событий?
Барон снова заговорил:
– Эта дверь была закрыта. Я подтверждаю, что нашел засов, как он был оставлен накануне вечером. Если бы вы прошли через эту дверь, как говорите, то требовалось, чтобы кто-то открыл ее изнутри, то есть из будуара или из нашей комнаты. Но в этих двух комнатах никого не было… никого, кроме моей жены и меня.
Шолмс наклонился и закрыл лицо руками, чтобы не было видно, как он покраснел. Он будто ослеп от резкой вспышки, был поражен и растерян. Все стало ясно, как если бы он увидел пейзаж в лучах восходящего солнца: Алиса Демэн невиновна!
Алиса Демэн невиновна. Это была непреложная, ослепительная правда, вместе с тем объясняющая неловкость, что он испытывал с первого дня своего расследования, целью которого было предъявить ужасное обвинение этой девушке. Теперь ему все стало ясно. Он знал. Одно движение – и внезапно перед ним предстало неопровержимое доказательство.
Он поднял голову и взглянул настолько естественно, насколько это было возможно, на мадам д’Эмблеваль.
Она была бледна той непривычной бледностью, которая появляется в моменты самых тяжелых жизненных испытаний. Она попыталась спрятать руки, которые едва заметно дрожали.
«Еще секунда, – подумал Шолмс, – и она выдаст себя».
Он встал между баронессой и ее мужем, ощущая настоятельную потребность заслонить ее от страшной опасности, угрожавшей, по его вине, этим мужчине и женщине, но при виде барона он содрогнулся. То же внезапное прозрение, что озарило Шолмса, теперь случилось и у господина д’Эмблеваля. То же самое происходило и в его мозгу. Теперь и он понял! Он увидел!
Отчаявшись, Алиса Демэн восстала против очевидной правды.
– Вы правы, мсье, я ошиблась… Действительно, я отсюда не заходила. Я прошла через вестибюль и сад и по лестнице…
Высшее проявление преданности… но бесполезное! Слова звучали неестественно, а голос неуверенно. Взгляд этого нежного существа больше не был ясным и искренним. Побежденная, она опустила голову.
Наступила ужасающая тишина. Мадам д’Эмблеваль застыла, мертвенно-бедная, напряженная, испуганная и встревоженная. Барон, казалось, боролся с собой, не желая верить в то, что его счастье разрушено. Наконец он пробормотал:
– Говори же! Объясни мне!
– Мне нечего сказать тебе, бедный мой друг, – произнесла она совсем тихо, голосом, истерзанным болью.
– Тогда вы, мадемуазель…
– Мадемуазель спасла меня… из преданности… из участия… и обвинила себя…
– Спасла от чего? От кого?
– От этого человека.
– От Брессона?
– Да, это мне он угрожал… Я познакомилась с ним у подруги и имела глупость слушать его… О нет, ничего такого, что бы ты не мог простить… но я написала ему два письма… ты увидишь эти письма… Я их выкупила – ты знаешь как. О, сжалься надо мной! Я пролила столько слез!
– Ты… Сюзанна!
Барон занес над ней сжатые кулаки, готовый ударить, готовый убить. Но руки его опустились, и он прошептал:
– Ты, Сюзанна! Ты! Возможно ли это?
Короткими отрывистыми фразами его жена рассказала о горестном и банальном приключении, о своей растерянности и прозрении при виде подлости этого человека, об угрызениях совести и своем ужасе. Рассказала она и о замечательном поведении Алисы, догадавшейся об отчаянии своей хозяйки, написавшей Люпену и организовавшей эту историю с кражей, чтобы вызволить баронессу из лап Брессона.
– Ты, Сюзанна, ты… – повторял господин д’Эмблеваль, сгорбившийся, подавленный. – Как ты могла?
Вечером того же дня пароход «Виль де Лондр», курсировавший между Кале и Дувром, медленно скользил по глади вод. Ночь была темной и спокойной. Над пароходом лениво проплывали облака, легкие клочья тумана отделяли его от бесконечного пространства, где разливался белый свет луны и звезд.
Бóльшая часть пассажиров поднялись в свои каюты и в салоны, но некоторые, самые отважные, прогуливались по палубе или же дремали в шезлонгах под толстыми пледами. То тут, то там вспыхивали огоньки сигар, слышался тихий шепот голосов, смешивавшийся с нежным дыханием бриза и не нарушавший величественную тишину.