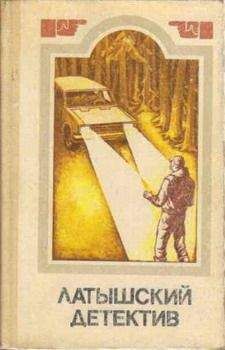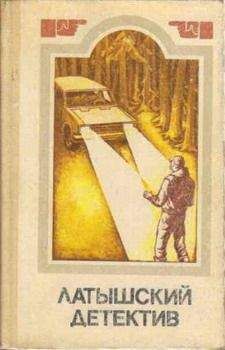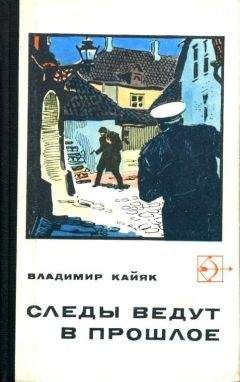Владимир Кайяк - Чудо Бригиты. Милый, не спеши! Ночью, в дождь...
– Если велосипед (он висел высоко, под потолком, на двух вбитых в стену железных крюках) снести вниз в сарайчик, то коричневый ящик можно было бы подвинуть дальше, – сообщал отец и перечислял еще по крайней мере с полдюжины вещей, которые следовало бы передвинуть, чтобы в конце концов под столом освободилось место хотя бы для ног сидящих.
– Ты хочешь, чтобы велосипед украли! – поначалу ответ всегда был отрицательным и частенько абсолютно нелогичным. Как будто отец действительно хотел, чтобы велосипед украли. Велосипед – почти единственная его радость, на нем он ездил на Букултский канальчик или на Малую Юглу порыбачить – свежую рыбу мать покупала только зимой. Звенья складной бамбуковой удочки он привязывал к раме велосипеда, донельзя выгоревший и залатанный рюкзак прилаживал за плечами, алюминиевый бидончик с плотвичкой или другой наживкой подвешивал с рулю – и до свиданья! – скрип педалей «Латвело» удалялся по направлению к собору Павла.
– Кому такой хлам нужен! – ворчал в ответ отец, хотя в его голосе и слышалось некоторое сомнение. А если в самом деле украдут? Что тогда? Если у тебя есть велосипед, то можешь жить как король – ехать куда и когда хочешь. Ведь на автобус никогда нельзя надеяться и вообще – там, куда можно подъехать на автобусе, тебя всегда опередит какой–нибудь рыболов. Нет, велосипедом он рисковать не станет, но желание вытянуть ноги под столом тоже не проходило, и вскоре появлялся другой проект: коричневый ящик подвинем не вправо, а влево, в корзину для щепок сложим пустые банки из–под варенья, и таким образом в посудном шкафчике освободится левая полка, куда стоймя войдет швейная машинка – у матери она была ручная, без столика. Эврика! Удобно и просторно! Теперь вечерний чай имел совсем другой вкус. Если потребуется, то и еще одно место можно выкроить.
«Как я мог здесь жить? Но ведь жил. Факт. Ящик для хлеба отодвигал к стене, чистые миски и тарелки переносил на плиту, раскладывал книги, тетради и учил уроки. И даже в студенческие годы. Вначале…»
– Что тебе нужно? – резко спросила мать.
Он еще не успел даже переступить порог комнаты.
– Уходи! – Глаза – единственное, что осталось живым на ее усохшем лице, кололи, словно острыми вертелами.
– Послушай, у меня хорошее, конкретное предложение, – спокойно сказал он, как будто вовсе не слышал ее слов.
– Я ничего не хочу слышать!
– Если ты не желаешь жить у нас, – он снова пропустил обидные слова мимо ушей. – Если ты не желаешь жить с нами, есть еще одна возможность. Дом в Лиелциемсе готов, можешь перебраться туда.
– На зиму. А летом?
– Дом большой. Места там хватит для всех. Одна комната имеет отдельный вход, я думал – на случай, если Наурис женится.
– Тебе только и нужно, чтоб кто–нибудь стерег дом и топил печи, чтоб грибок не завелся.
– Ты несправедлива, мать, – он вдруг почувствовал себя очень усталым.
– На пальцах одной руки можно пересчитать, сколько раз за эти годы ты наколол и принес мне дров!
– А тебе хоть час пришлось мерзнуть?
– Весь дом меня осуждает: сына вырастила, а дрова носит чужой человек!
– Черт побери, а тебе не приходило в голову, что ему кто–то за это платит? Пойми наконец, что я хирург и не могу возиться с дровами. Не имею права, потому что должен беречь свои руки, и, может быть, даже больше, чем глаза. Мне надоело тебе это повторять.
– Ты всегда находишь отговорки.
– Мама, ясно и понятно скажи, чего ты хочешь.
– Я хочу, чтобы ты сейчас же ушел.
– Что случилось?
– Ты берешь взятки!
– Кто тебе наговорил таких глупостей! Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему ты денежный перевод отправила обратно.
– Не нужны мне твои деньги. Я и так уже не смею на улице показаться – со стыда хоть сквозь землю провались. В очереди за молоком на меня пальцем показывают – вон у этой… сын профессор, но к нему без пачки денег и не подходи – с лестницы спустит!
– Тебя с твоими тетушками надо отвести к психиатру!
– Да, на это ты способен! И дружки найдутся, помогут отправить мать в сумасшедший дом за то, что она отказывается от твоих грязных денег! Уж лучше умру с голода или буду жить в сумасшедшем доме, чем возьму их. Понял?
– Тех, у кого нет денег, я оперирую не хуже, чем тех, у кого они есть.
– Уходи же, наконец, отсюда, не рассиживайся тут!
Потерянно и тупо смотрел он в пол, понимая, что если станет объяснять, получится сбивчиво, что мать из его объяснений ничего не поймет, и они причинят всем одни неприятности, тем самым он может подвести других, тогда в клинике все зашатается и рухнет, а его самого попросят с должности – некоторые не только в Риге, но и в Москве с нетерпением ждут, когда освободится это место – ведь оно обеспечивает не только большой оклад, оно еще и престижно. Из–за этого места ему и так нет житья от интриг – слишком оно заманчиво. Тот, кто усядется в это кресло, еще долго сможет украшать себя лаврами, добытыми Наркевичем, торгуя ими оптом и в розницу. Как раз для такого, кто расчетливо породнился с высшими кругами и теперь сидит на скромной должности в министерстве в ожидании всяких благ.
– Если тебе надо помочь, скажи – придет Наурис.
– Мне от тебя ничего не нужно!
Мать он всегда любил больше, хотя считалось, что похож он на отца. Его до слез злила скромность отца: он никогда не пытался изменить свое общественное положение, даже когда случай тому способствовал. Однажды отцу, несмотря на его недостаточное образование, но учитывая долголетнюю безупречную работу на заводе, предложили должность мастера в энергетическом цехе. Для старшего истопника это была большая честь, но отец отказался. Матери о предложении он, конечно, не сказал ни слова, но она, к несчастью, случайно узнала об этом от его товарищей. Изменить ничего нельзя было – мастером уже работал другой человек. Мать плакала навзрыд, осыпала отца злыми упреками, а он, опустив голову, оправдывался: возись там с бумагами да отсиживай на всяких собраниях; и вообще – кто такой нынче мастер? Для ругани сверху и для ругани снизу. Да еще чтоб уговаривать. То уговори поработать в выходные, то уговори на сверхурочные. Никогда не будешь чувствовать себя спокойно – всегда что–нибудь недоделанное будет висеть на тебе. И вся разница в нескольких рублях. Богатым он никогда не был, во и там не разбогатеешь.
– Да, ты никогда никем не станешь, – с горечью сказала тогда мать. – Я это знала еще, когда замуж за тебя выходила!
В юности сыну казалось, что мать вышла замуж за отца, потому что обожглась на любви к другому, после чего решила, что самое лучшее – тихая заводь и что тосковать по стремительным водам она больше не станет. Отец был великий никто: любящий – в меру, работящий – тоже в меру; ему еще не было и сорока, когда он решил, что остальную часть жизни он проведет, сидя на берегу с удочкой, под западным ветром, когда клюет даже самая ленивая рыба, и не будет стремиться ни к каким другим мирским благам. Если в Риге и был кто–нибудь почти или полностью доволен жизнью, так это отец. И ему повезло – он не дожил до оскудения латвийских рек и озер, и до последнего своего часа возвращался домой с хорошим уловом.