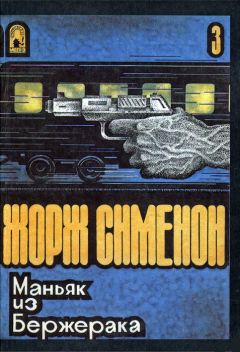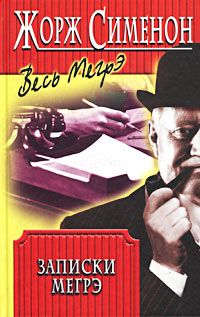Жорж Сименон - Вдовец
Ритм их дней не зависел ни от боя часов, ни от восхода или заката солнца. Это был их собственный, глубоко личный ритм, который и создавал бег их времени, ускользавший от всех правил, от всех влияний извне.
Так, например, в эту минуту он бы сидел и читал, слушая, как Жанна готовится ко сну, а потом она подошла бы поцеловать его и прошептала бы почти так же робко, как в первый месяц:
— Не засиживайся слишком поздно.
Не намекнул ли сейчас инспектор, что больше это не повторится — по ее вине, потому что она не хочет, чтобы это повторялось?
Старая мадемуазель Кувер спит сейчас над его головой, в той же комнате, что и Пьер, — он не раз слышал, как мальчик шлепает босиком в те ночи, когда ему не спится. Другие жильцы, еще выше этажом, — он знал их только в лицо, — вероятно, тоже спят. Контора судебного исполнителя пуста — он живет где-то в пригороде.
Это несправедливо. Это неправда. Да, он нашел нужное слово и был уверен, что не ошибся: в основе всех суждений Горда есть какая-то неправда. Какие бы аргументы ни приводил инспектор, невозможно допустить, чтобы он оказался прав.
Жанна не ушла от него. Она не могла отрезать себя от него добровольно, обдуманно. Да, они так и не заплатили этот пресловутый штраф, но что бы там ни думал Горд, никто никогда и не приходил требовать его.
Они долго жили в тревоге, вечно ожидая, что кто-то постучит в дверь. Однако мужчина, имя которого Жанте не пожелал узнать, так и не явился.
Если бы ему, к примеру, помешало прийти тюремное заключение и его недавно выпустили на свободу, разве сегодня полицейский не сказал бы Жанте об этом?
Неправда! Надо найти то, что лживо в корне. Жанна не находится сейчас в какой-то комнате с каким-то мужчиной, но она не одна. И не бродит по улицам. Не села в поезд в своем домашнем черном платьице и в старых туфлях.
Горд звонил в три ближайшие больницы, но ведь в Париже есть и другие. И Жанте встал, неуклюжий, неловкий, словно человек, который выпил, зажег свет и, моргая, начал перелистывать телефонную книжку.
— Алло!.. Больница Божон?.. Извините, мадемуазель… Я хотел бы спросить…
— Вам нужна неотложная медицинская помощь?
— Нет… Не можете ли вы сказать — привозили к вам сегодня днем молодую женщину, Жанну Жанте?
— На операцию?
— Не знаю…
— Назовите имя по буквам.
— Жозеф… Анна…
Потом в больницу Биша, в больницу Бусико…
Это отвлекало его. Он терпеливо повторял:
— Нет, мадемуазель… Не знаю… Жозеф… Анна…
И каждый раз извинялся, благодарил.
— Алло!.. Больница Бретонно?.. Нет, мадемуазель, не насчет неотложной. Я только хотел узнать…
Он пристально смотрел на телефонную трубку, на глазах у него выступили слезы.
— Спасибо, мадемуазель.
Он забыл выкурить две последние из полагающихся ему десяти папирос.
— Алло!.. Больница Брока?..
Потом больница Бруссе… Шошар… Клод-Бернар, Кошен, Красный Крест… Дюбуа… Больница для приютских детей…
От порыва ветра вздрогнула дверь напротив него, и он бы не удивился, если б вошел призрак.
Леннек… Питье… Ларибуазьер…
Сотни, тысячи больничных коек с больными, умирающими… Жертвы несчастного случая, тела, которые разрезали, и покойники, которых спускали в мертвецкую на грузовых лифтах…
Его сестра Бланш работала не в настоящей больнице, а в родильном доме, на бульваре Пор-Руаяль. Она была акушеркой. Она была на три года моложе его и жила одна в квартире у парка Монсури. С тех пор, как он женился на Жанне, они больше не встречались.
У него был и брат, старший, живший с женой и тремя детьми в особнячке в Альфорвиле. Более коренастый, более крепкий, чем он, брат работал механиком в Национальном обществе Французских железных дорог.
У него была даже мать. Она жила в Рубе и, вторично выйдя замуж, осуществила мечту своей жизни — ее новый муж содержал кабачок вблизи канала.
Все эти люди не имели ничего общего ни с ним, ни с его квартиркой на улице Сен-Дени. Никто из них ни разу не переступал ее порога.
…Больница Сен-Жозеф… Сен-Луи… Нет! Инспектор уже звонил в больницу Сен-Луи… Сальпетриер… Тенон… Груссо.
И последняя — больница Вожирар.
— Жозеф… Анна…
На этот раз, когда он открыл рот, чтобы сказать спасибо, у него вырвалось только рыдание, и он уронил голову на сложенные руки.
3
Часов около трех ночи, где-то в стороне улицы Малых Конюшен или улицы Паради, очевидно, произошел сильный пожар, насколько он мог судить об этом. Он еще сидел в своем кресле, когда под окнами промчались две пожарные машины, затем, четверть часа спустя, с еще большим шумом, пронеслась третья. Когда, спустя еще некоторое время, провезли также пожарную лестницу, он подошел к окну и увидел последнюю машину, которая везла к месту происшествия официальных лиц.
На Бульварах было почти пусто, и у подножья ворот Сен-Дени какая-то кошка мяукала всякий раз, как слышала в отдалении шаги. В том направлении, куда уехали пожарные, не видно было ни дыма, ни огня над крышами, но временами оттуда доносился какой-то отдаленный гул, характер которого он не мог себе уяснить.
За ночь он насчитал пять полицейских машин, которые промчались, гудя, по его кварталу. Ни одна из них не остановилась поблизости от его жилья. Ближайшее к нему происшествие, очевидно, случилось на площади Республики, потому что оттуда до него донесся выстрел.
Удалось ли ему задремать — этого он не знал и сам. Когда небо побледнело и первые мусорщики потащили по тротуарам свои ящики, глаза его были широко открыты.
Какое-нибудь сильное болеутоляющее средство или наркотик, например, новокаин или даже опиум, — он не знал, что именно, ибо никогда в жизни не прибегал к ним, — наверное, привели бы его в такое же состояние. Это нельзя было назвать потерей чувствительности, напротив, тело его было сейчас более чувствительным, чем обычно, в особенности веки. И вместе с тем весь он как будто оцепенел нравственно и физически, и временами все казалось ему неясным, смутным — и мысли, и ощущения.
Так прошла ночь. И прошел еще день. Потом еще ночь. Время исчезло, часы стерлись, не было ничего и было все, была пустота, насыщенная ожиданием и какими-то образами — то бесцветными, то яркими.
В котором часу пошел он в кухоньку приготовить себе первую чашечку кофе? За те годы, что он жил не один, он успел забыть, где и что там стоит. Уже светило солнце, слышались разрозненные звуки, повседневная жизнь начиналась там, снаружи, и когда он, стоя, бросил в чашку три куска сахара, размешал их ложечкой, придвинул к губам горячую жидкость, одно слово вдруг промелькнуло в его сознании, слово, которое он, кажется, еще никогда не употреблял: вдовец.