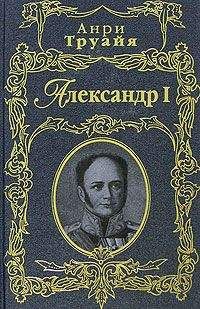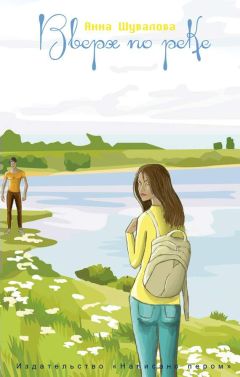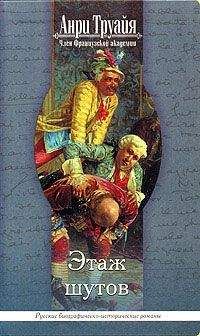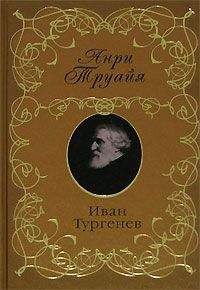Анри Шадрилье - Тайна Медонского леса
– Пойми, что не я обвиняю тебя в этом, обвиняют тебя сами факты, сами обстоятельства дела. К сожалению, не говорит в твою пользу и твое прошлое.
Бедный Фрике был окончательно уничтожен. Он был невинен, а между тем не смел утверждать свою невинность, не имея ни средств, ни сил доказать свою правоту. Вдруг его озарила счастливая мысль.
– Я имею доказательство! – радостно вскричал он.
– Какое?
– Я видел на земле, возле умирающего, обрывок конверта.
– Ну и что же из этого?
– Бумага эта служила пыжом для одного из пистолетов. То, что на ней написано, поможет мне разыскать противника этого несчастного молодого человека.
– Что же там написано?
– Окончания каких-то двух слов:…ен и…ер.
– Шутишь ты, что ли, со мною?
– Нисколько.
– Так вот оно, твое доказательство! Что же подразумеваешь ты под этими загадочными буквами?
– Я и сам еще ничего не понимаю, – отвечал Фрике, – но рано или поздно я должен это узнать. Да, тут конечно, кроется преступление… Конечно! Я почти уверен… Но только совершил его не я, потому что убийца – это тот человек, который ограбил свою жертву, который хотел выдать своего противника за самоубийцу. Но я найду, найду этого негодяя, потому что не хочу пострадать за чужое преступление.
В словах Фрике было столько энергии, столько неподдельной правдивости, что убеждение старика Лефевра невольно пошатнулось.
– Я должен был бы отдать тебя сейчас же в руки правосудия, – сказал он своему приемному сыну, – там уже сумеют разобрать, прав ты или виновен; но я не хочу губить тебя, хотя и сам не уверен в твоей невинности. Ты не можешь понять, что значит вырастить, воспитать ребенка, а потом видеть его падение, его гибель!..
– Говорите, что хотите, мосье Лефевр; как человек, заменивший мне отца, вы имеете на то полное право… Но поверьте мне, я невинен!
– Докажи мне свою невинность, и я буду очень, очень счастлив. Вот что я сделаю для твоего успокоения: я оставлю у себя этого бедного молодого человека до его выздоровления, а может, вернее, смерти… Так как это будет уже не первый больной, которого я взял на попечение, никто, конечно, не удивится этому. Если ты действительно невинен, то можешь, когда он будет на ногах, с его помощью скорее разыскать преступника. Если же ты виновен, – иди, куда хочешь, вешайся на первом попавшемся дереве, забудь меня, старика… Ты мне тогда чужой, чужой до гроба. Но выдать тебя, предать в руки правосудия я не в силах. Несмотря на то, что ты гадкий, негодный мальчишка, я привык считать тебя своим сыном, я не могу побороть в себе чувства привязанности и жалости к тебе.
– Мосье Лефевр, пожелайте мне успеха, дайте мне вашу руку. О! Не бойтесь…
– Тише! Сюда идет Мари…
Несколько минут спустя Фрике был уже опять в лесу, на том самом месте, где лежал раненый, и отыскивал бумажку с таинственными окончаниями слов. Найдя этот важный документ, он направился в Париж.
– Клянусь! Я найду, найду этого человека… Как? Я и сам не знаю. Но уже из одного чувства симпатии и сострадания к этому несчастному я постараюсь разыскать его убийцу. У меня будет теперь хоть какая-нибудь цель в жизни. На что был бы я годен, если бы не старался принести хоть какую-нибудь пользу ближнему? А ведь этот добрый мосье Лефевр серьезно считает меня убийцей; он, кажется, готов был предать меня проклятию! Чудак!
Фрике-Состен был, значит, не особенно огорчен и опечален, если мог подшучивать. Но ведь ему было только восемнадцать лет! Двадцать раз переворачивал он в руках загадочный лоскуток бумаги, стараясь разгадать таинственный смысл слогов:…ен…ер.
– Нет! Надо сходить к Николю и поговорить с ним об этом, – решил наконец Фрике.
V
Николь
Николь, к которому Фрике-Состен имел такое большое доверие, тип довольно любопытный. Это был тридцатипятилетний философ, изучавший философию на практике, а не в теории. Мизантроп, полный когда-то иллюзий и мечтаний, но растерявший их одну за другой на тернистом жизненном пути, Николь мог быть причислен к разряду «смирившихся».
Изгнанный из отчего дома за неуважение к мачехе, Николь сказал себе:
– Мне пятнадцать лет, и я ничего не знаю, ничего не умею делать, но уже ни за что не вернусь к этому старому зверю, который называется моим отцом!
И вот он выкинут на мостовую, он не имеет ни крова, ни пристанища, а между тем надо и пить и есть каждый день. Через что пришлось пройти бедному Николю, могут понять только те, кого судьба наградила хорошим желудком, требующим работы несколько раз в день, и кошельком столь же пустым, как и их голодный желудок. Он был ремесленником, привратником, рассыльным, наконец, вздумал испробовать свои силы на театральных подмостках. Имя Николя красовалось на афишах театра Монпарнас, в котором он разыгрывал Меленгов и Дюмэнов.
В это самое время Николь и познакомился с нашим Фрике, бывшим одним из горячих его поклонников. Восхищенный его длинными, высокопарными тирадами, Состен счел бы за величайшее счастье поцеловать хоть край его одежды. После представления он бегал за своим любимцем, чтобы хотя одним глазом взглянуть на него вблизи.
Наивное восхищение это, конечно, льстило самолюбию Николя, и в нем тоже зародилось чувство симпатии к молодому человеку. Привязанность эта скоро окрепла и перешла в более серьезное чувство. Некоторое сходство между прошлым артиста и настоящим нашего Фрике было главной причиной скорого сближения приятелей.
На счастье Николя, мачеха его не была долгожительницей. Через три месяца после смерти жены умер и отец его, не успев лишить непокорного сына наследства. Из нищего Николь превратился вдруг в достаточно богатого человека.
Отец его был часовых дел мастером, и магазин достался теперь Николю. Обратив весь товар в наличные деньги, Николь принялся проживать их. Но скоро разгульная жизнь прискучила ему. И сил, и денег было потрачено много, а в результате – одно пресыщение. Подведя итог, Николь увидел, что из ста тридцати тысяч франков, полученных им от отца, у него едва оставалось сорок три тысячи. Взглянув на себя в зеркало, он заметил морщинки на лбу и преждевременную седину на висках. В метрике его стояло уже двадцать девять лет. Пора было немножко опомниться. Он это и сделал.
По некотором размышлении Николь отправился со своими сорока тысячами к надежному банкиру и, поместив их в верные руки, стал получать 1719 франков ежегодного доходу.
По возвращении от банкира он уложил свои вещи в дорожный сундук, а ненужные бумаги, записки и всякий хлам предал сожжению. Далее он уплатил за квартиру, дал привратнику двадцать франков, сказав ему, что на следующий день мебель будет взята обойщиком, и наказал говорить всем, кто только будет его спрашивать: