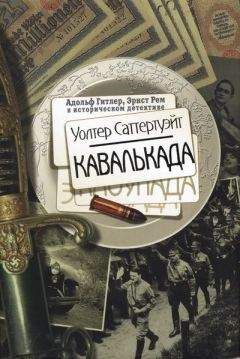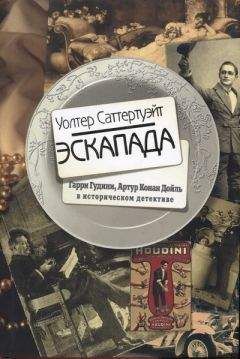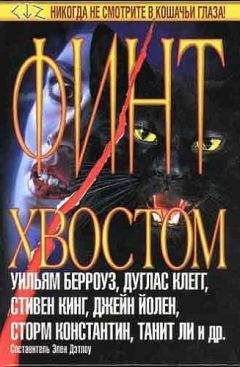Уолтер Саттертуэйт - Клоунада
Хемингуэй весь сиял, пожимая мне руку.
— Ужасно рад с вами познакомиться, Джейн. Англичанка, а? У меня полно друзей в Англии. Прекрасные люди эти англичане. Эжени говорит, вам понравились мои опусы?
— По-моему, — сказала я, — те рассказы, которые я читала, написаны прекрасно.
Его взгляд опустился мне на грудь.
— Прекрасно. Всегда приятно слышать такое… — он обратил свое сияние на Эжени, — …особенно от прелестной девушки, да?
Эжени улыбнулась.
Хемингуэй снова повернулся ко мне. И несколько приглушив сияние, серьезно сказал:
— Именно этого я и добиваюсь. Честности, А это самое трудное. Избавиться от всякой ерунды. Когда я сажусь, то стараюсь написать одно честное предложение, одно предложение, удачное, честное и правдивое. Порой на это уходит целый день.
— Но вы, конечно, — слабо улыбнулась Эжени, — не можете ограничиться только одним таким предложением.
— Я начинаю с одного, — проговорил он несколько раздраженно, как мне показалось. — Потом пишу второе. Самое трудное — борьба с истиной. И борьба за истину. — Он повернулся ко мне и, воссияв с новой силой, спросил:
— Так что, Джейн, вы давно в городе?
— Всего два дня.
— Хорошо проводите время?
— Замечательно. Я обожаю Париж.
Хемингуэй снова бросал быстрый взгляд на мою грудь — должно быть, чтобы убедиться, что она никуда не делась после последнего осмотра, и вновь обдал меня своим ослепительным сиянием.
— Он замечательный. Париж — это праздник.
— Да, — согласилась я, — и праздник, который всегда с тобой, не правда ли? Он оставляет нам такие яркие воспоминания, которые не покинут нас никогда. И остаются с нами на всю жизнь.
Хемингуэй кивнул, вдруг снова посерьезнев.
— А вы сами пишете?
Я засмеялась.
— Что вы, нет.
Он опять просиял, словно почувствовав облегчение, как мне показалось.
— Тогда вы единственный человек в Париже, который не ищет контракта на книгу. Послушайте, я собираюсь поискать вино. У Гертруды всегда водится хорошее пойло. Вам принести?
— Думаю, не стоит. Я сегодня уже довольно много выпила.
Хемингуэй ухмыльнулся.
— Вы же в Париже, а? К тому же на дармовщинку. Ну как?
— Ну, разве что совсем капельку.
— Идет. А вам, Эжени?
— Да, пожалуй, Эрнест, Благодарю.
— Годится. Вернусь через минуту.
Поворачиваясь, Хемингуэй задел рукой за край маленького столика у стены. Стоявшие на нем статуэтки закачались. А он как будто ничего не заметил.
Когда его широкая спина затерялась в толпе, я повернулась к Эжени. Она улыбалась.
— Нужно доверять искусству, — сказала она, — а не художнику.
— Да? — удивилась я.
Эжени засмеялась.
— Надо, однако, признать, что он очень красивый мужчина.
— Просто сногсшибательный. Удивительно, что он холост, хотя, если подумать, тут нечему удивляться.
— Да он женат. И сейчас его жена ждет ребенка.
— Тогда почему он… так ведет себя со мной?
Еще одна улыбка.
— Как он сам говорит, это Париж.
Через некоторое время Хемингуэй вернулся с тремя бокалами, причем он их нес так же осторожно, как шахтер динамит. Один бокал он передал Эжени, другой мне, а последний оставил себе и тут же поднял его с сияющим видом:
— Наше здоровье!
— Наше здоровье, — хором откликнулись мы с Эжени. Хемингуэй выпил, причем тонкая струйка вина потекла у него по левой щеке и капнула ему на плечо. Он опустил руку с бокалом, переложил его в левую, а правой небрежно отряхнул плечо. Я вежливо посмотрела в сторону и встретилась глазами с господином Бомоном.
С ним, как оказалось, была стройная, холеная и ужасно маленькая спутница в блестящем шелковом платье, черной шляпке-колпачке и накинутой на хрупкие плечи черной шелковой шали. Они только что прошли в комнату следом за мисс Токлас.
Господин Бомон явно меня узнал. Но коротким, едва заметным движением головы дал мне понять, чтобы я не обращала на него внимания. И пошел дальше за мисс Токлас, а спутница висела на его руке так, будто он ее только что вытащил из бурных волн.
Господин Хемингуэй распространялся о корриде, на которой он однажды присутствовал, И снова лицо у него было серьезное: он рассуждал о храбрости и изяществе с нудной патетикой, как часто делают мужчины, обсуждая убийство невинных животных. А я вспоминала Мейплуайт, где два года назад провела несколько дней и где впервые встретилась с господином Бомоном.
Он и его спутница беседовали с мисс Стайн, когда господин Хемингуэй, пытаясь показать, как тореадор, или коридор, или как там его, должен выполнять движения во время боя с быком, снова задел рукой столик, но на этот раз куда сильнее. Столик немного покачался, затем отошел от стены и рухнул на пол. Статуэтки кувырком разлетелись по ковру — как я успела заметить, бюст Адриана угодил прямиком в лодыжку господина Пикассо.
Впрочем, серьезно ничто не пострадало, за исключением разве что господина Пикассо, — он прохромал в дальний угол комнаты, с опаской косясь через плечо, но господин Хемингуэй еще не закончил. Ринувшись подхватить падающий столик, он зацепил локтем картину — она сдвинулась в сторону и ударилась о соседнюю. На секунду перед моими глазами предстало ужасное видение: картины на всех стенах вдруг начинают сталкиваться друг с другом, как гигантские костяшки домино.
По-видимому, стремясь предотвратить именно такой ход событий, господин Хемингуэй протянул руку и немедленно получил по костяшкам пальцев рамой, описавшей по дуге обратное движение. Это была очень тяжелая картина, портрет мисс Стайн, и удар оказался чувствительным. Хемингуэй отпрянул назад и принялся сильно трясти рукой.
— Вы в порядке, Эрнест? — спросила Эжени.
Он перестал трясти рукой. Просиял и с героической небрежностью пожал плечами.
— Пустяки, а? На войне куда труднее приходилось.
Тут появилась мисс Токлас и запричитала над ушибленной рукой господина Хемингуэя. В качестве лекарства она назначила ему большую порцию coq au vin, что показалось мне довольно любопытным терапевтическим средством, но господин Хемингуэй с готовностью согласился его принять. Пока она вела его на кухню, он обернулся через плечо и одарил меня сияющим взглядом.
— Через минуту вернусь.
Но еще меньше чем через минуту, кто бы ты думала, вынырнул перед нами из толпы, выкрикивая имя Эжени, как не тощая пигалица господина Бомона с широко раскрытыми глазенками и крошечным алым ротиком, растянутым в улыбке.
— Merde![71] — вполголоса проговорила Эжени. Но приветствовала женщину вполне вежливо — Роза. Как приятно тебя видеть.