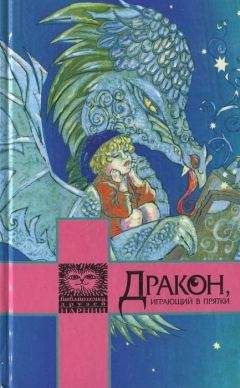Гилберт Честертон - Преданный предатель
Монарх совсем растерялся.
— Тебе не кажется, — спросил он, — что мы немного отвлеклись? Речь шла о пустяке, о лакее, которого нужно допросить…
— Я не отвлеклась, — отвечала принцесса, — я о том и говорю. Неужели вы не видите, что с этим лакеем — то же самое? Все ругают патриотизм или воинскую верность, и обычные, бедные люди отдают свою верность негодяю. Ливрея велит хранить ему преданность заговорщику, а мы боимся дать ему мундир, чтобы он был предан королю!
— Лично мне, — заметил полковник, — очень близки взгляды Вашего Высочества. Но боюсь, уже поздно давать мундиры.
— Откуда вы знаете? — воскликнула прекрасная дама. — Вы пробовали? Вы их спрашивали, что они чувствуют к своей стране и к королю, о котором слышали в детстве?
Нет. Вы вытягиваете из них всякие подробности, хотя их не помнит ни один нормальный человек. Естественно, он кажется дураком. Хотела бы я поговорить с ним!
— Моя дорогая… — начал ее дядя, но увидел лицо над ее плечом и умолк. Симон, пристойно кашлянув, повел такую речь:
— Если Ваше Величество не возражает, я скажу, что мы должны сохранять здравое чувство меры. Лакей — человек неученый, и в этом смысле действительно — человек из народа, один из бесчисленных представителей обычных людей. Для изучения общества с ним интересно побеседовать, но в данное время мы не вправе отвлекаться от других, более насущных проблем. Мы должны изловить исключительно опасных преступников. Профессор пользуется большой известностью; генерал — военный герой, стоящий во главе армий; и спорить сейчас о заурядном лакее…
Он замолк. Аврелия Августа шла к двери, обратив к нему невинное и гневное лицо. Убежденность тех, кто еще не верит в сложность жизни, сверкала на этом лице, и двое мужчин уступили принцессе, требующей свидания с лакеем, словно увидели в ней великую пастушку, требовавшую свидания с королем.
4. Женское неразумие
Итак, налет на Павлинью площадь кончился фарсом, комнаты оказались пустыми, если не считать растерянного слуги, которого и забрали вместе с той мебелью, которая могла бы дать хоть какой-то ключ к тайне. В слуге этом не было ничего, что отличало бы его от мебели. Он был довольно высок и довольно статен, как подобает хорошему лакею. Его приятное, важное лицо казалось и восковым, и деревянным, что подошло бы к пудреному лакейскому парику, но больше он ничем не отличался, разве что подбородок был слишком упрям, хотя светлые глаза выражали еще меньше, чем требует служба. Действительно, когда начался допрос, полиция убедилась и в его исключительном упрямстве, и в исключительной глупости.
Конечно, его обижали, пугали и ругали, используя те незаметные методы, которые в современных и просвещенных государствах как бы и предназначены для кебменов, мелких торговцев, слуг, словом — для тех, кто по бедности обязан предаваться преступлениям, хотя равно те же методы ужасают всю Европу, если их по глупости применят к банкиру или известному журналисту. Однако от лакея ничего не добились, усталые полисмены склонялись к тому, что он — полный идиот, но глава их, человек умный и не лишенный благородства, подозревал, что слуга молчит, ибо предан хозяевам.
Тем временем слуга привык, что дверь, открываясь, впускает человека в форме, который все-таки хочет собрать хоть что-нибудь на бесплодном поле его речей; и очень удивился, когда к нему в камеру вошла, как ни в чем не бывало, прекрасная дама в ослепительном платье. За ее плечом, в полумраке, мелькало лицо полицейского, но она явственно не желала, чтобы он выходил на свет, и, резко захлопнув дверь, улыбнулась лакею.
Конечно, он знал, кто она, он видел ее в журналах и даже на улице, в машине. Он знал, и поспешил выразить почтение, но она отмахнулась так просто, что он совсем онемел.
— Нет, нет, не надо! — сказала она. — Оба мы преданы королю, оба любим Павонию. Я не сомневаюсь, что вы ее любите, и хочу узнать, почему вы себя так ведете.
Он долго молчал, потом сказал, глядя в пол:
— Ваше Высочество, не заблуждайтесь. Я не такой уж патриот, а эти люди ничем меня не обижали.
— Что ж они для вас сделали? — спросила она. — Наверное, давали на чай, платили какое-то жалованье, скорее всего — маленькое. Разве можно это сравнить с тем, что дает своя страна? Мы едим ее хлеб, мы пьем ее воду, мы живем на свободе и в безопасности, полагаясь на ее закон.
Он внезапно поднял голову, и пустота его светлых глаз поразила ее.
— Я не на свободе и не в безопасности, — серьезно сказал он.
— Да, — не сдалась она, — но вы же сами виноваты. Вы знаете об этих людях что-то очень страшное и не хотите нас спасти.
— Они не сделали мне зла, — сказал он безжизненно, как автомат.
— Они и добра вам не сделали! — в отчаянии вскричала она. — Наверное, они вас обижали.
Он медленно подумал, потом заговорил, и сквозь размеренность речи, приличествующую слугам высокого ранга, все больше проступала интонация ученых и свободных людей.
— Понимаете, — начал он, — все познается в сравнении.
В школе, где я учился, меня почти не кормили. Мало кормили и дома, мы были бедны, я часто не спал от голода, а иногда — и от холода. Легко говорить о стране и о патриотизме. Если я, голодая, встану на колени перед статуей Павонии и попрошу у нее поесть, она сойдет с пьедестала и принесет мне горячих пирожков или бутербродов с сыром.
Если идет снег, а у меня нет теплой одежды, флаг над дворцом укутает меня, как плед. Во всяком случае, многим кажется, что так все и будет. Странные вещи надо пережить, чтобы в этом разубедиться.
Он сидел недвижно, но голос его взмыл ввысь.
— А здесь я ел. Здесь я выжил. Считайте, если хотите, что со мной обращались как с собакой, но здесь — моя миска и моя конура. Собака не покинет и не обидит хозяев.
Разве слуга хуже, чем пес?
— Как вас зовут? — спросила она.
— Меня зовут Иоанн Конрад, — охотно ответил он. — Сейчас у меня нет семьи, но прежде мы стоили больше, чем теперь. Поверьте, Ваше Высочество, здесь нет никакой тайны. В наше время многие скатываются вниз. Это легче, чем подняться наверх, да и лучше.
— Если вы порядочный человек, — негромко сказала она, — если вы где-то учились и что-то читали, тем стыднее служить шайке разбойников. Легко говорить о псах — легко, но не честно. У собаки один хозяин и один долг. У нее нет ни дела, ни веры, ни страны, она не знает закона. Но как примирить со справедливостью то, что случится, если город захватят бешеные псы?
Он напряженно глядел на нее, неравенство растворилось в споре, словно она и впрямь отмахнула все различия, войдя к нему в темницу. Он глядел на нее, и лицо его менялось, ибо он уловил еще один смысл этой странной беседы.