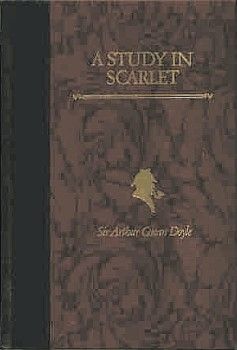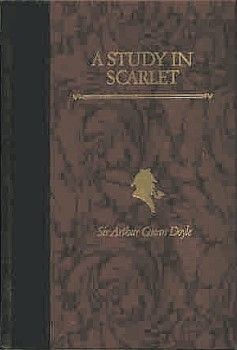Артур Конан Дойл - Этюд в багровых тонах (др.перевод+иллюстрации Гриса Гримли)
Невежество Холмса было столь же поразительным, как и осведомленность. Он ровным счетом ничего не знал о современной литературе, философии и политике. Мне случилось процитировать Томаса Карлайла, и Холмс наивно осведомился, кто он таков и чем знаменит. Но больше всего я удивился, когда совершенно случайно выяснилось, что он понятия не имеет о теории Коперника и о строении Солнечной системы. Чтобы цивилизованный человек, живущий в девятнадцатом веке, не ведал о том, что Земля вращается вокруг Солнца, — мне это представлялось настолько невероятным, что я решил было, что он шутит.
— Вы, похоже, удивлены, — улыбнулся Холмс, глядя на мое озадаченное лицо. — Ну, теперь я об этом знаю и постараюсь поскорее забыть.
— Забыть?!
— Видите ли, — объяснил Холмс, — по моим представлениям, человеческий мозг — это такой пустой чердачок, который можно обставить любой мебелью по желанию владельца. Дурак натащит туда первого попавшегося хлама, так что нужные знания туда уже не поместятся или в лучшем случае затеряются среди других вещей и в нужный момент никогда не окажутся под рукой. А вот грамотный ремесленник крепко подумает, что положить на этот чердак. Он отберет только те инструменты, которые пригодятся ему в работе, зато их будет много и храниться они будут в идеальном порядке. Ошибочно полагать, что у этой комнатушки резиновые стены и ее можно набивать сколько хочешь. Соответственно, наступает момент, когда, узнавая новое, вы неизбежно забываете что-то старое. Поэтому очень важно, чтобы бесполезные факты не вытесняли полезные.
— Но строение Солнечной системы! — запротестовал я.
— На кой черт она мне нужна! — запальчиво воскликнул Холмс. — Вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. Ну а вращались бы вокруг Луны — ни на мне, ни на моей работе это никак бы не отразилось.
Я хотел было спросить, что же это за работа, но что-то подсказало мне, что вопрос этот не вполне тактичен. Впрочем, я тщательно обдумал наш короткий разговор и попытался сделать некоторые выводы. Холмс сам сказал, что не обременяет себя бесполезными знаниями. Соответственно, все его познания связаны с его деятельностью. Я мысленно перечислил все отрасли науки, в которых, по моим наблюдениям, он был прекрасно осведомлен. Я даже взял карандаш и набросал свои выводы на бумаге. Когда документ был готов, я не смог удержаться от улыбки. Получилось вот что:
Дойдя до этого пункта, я в отчаянии швырнул свой список в огонь.
«Мне никогда не понять, к чему он себя готовит, и не придумать такого занятия, которое требует всех этих навыков, — сказал я самому себе. — Лучше и не пытаться».
Я уже упомянул, что Холмс прекрасно владел смычком. Однако, как и во всех его занятиях, мастерство сочеталось с эксцентризмом. Я знал, что он может исполнять достаточно сложные вещи, поскольку по моей просьбе он не раз играл «Песни» Мендельсона и другие любимые мной пьесы. Однако, когда он оставался один, от него редко удавалось услышать музыку или вообще что-либо похожее на мелодию. По вечерам он устраивался в кресле, клал скрипку на колени и, закрыв глаза, небрежно водил смычком по струнам. Иногда я слышал торжественные, печальные аккорды. В других случаях они казались радостными и романтическими. Они, несомненно, отражали его внутреннее состояние, но помогали ли они ему настроиться на определенный лад или просто были порождением прихоти или причуды, я не мог судить. Я, наверное, взбунтовался бы против этих раздражающих концертов, если бы в завершение он, как правило, не исполнял одну за другой несколько моих любимых мелодий — чтобы вознаградить меня за долготерпение.
В первую неделю к нам никто не заходил, и я начал подумывать, что компаньон мой так же одинок, как и я. Но постепенно выяснилось, что у него множество знакомых, причем из самых разных слоев общества. Заглядывал к нам человек с желтоватым, каким-то крысиным лицом и темными глазками — его мне представили как мистера Лестрейда, и он появлялся раза три-четыре за одну неделю. Однажды утром нас посетила элегантно одетая девица, которая проговорила с Холмсом не меньше получаса. В тот же день явился потрепанного вида старик, судя по виду, мелкий торговец-еврей, сильно, как мне показалось, взволнованный; почти сразу за ним пришла неряшливо одетая старуха. В другой раз с моим компаньоном беседовал седовласый джентльмен; а позднее — вокзальный носильщик в вельветиновой форменной куртке. Когда появлялся очередной из этих разношерстных персонажей, Шерлок Холмс просил у меня позволения занять гостиную, и я уходил в свою спальню. Потом он всегда извинялся за причиненные неудобства. «Приходится использовать эту комнату для деловых встреч, — пояснял он, — а эти люди — мои клиенты». И опять у меня появилась возможность задать ему прямой вопрос, и снова чувство такта не позволило насильно вызывать его на откровенность. Мне тогда казалось, что у него есть веские причины таиться от меня, однако вскоре он опроверг это предположение, по собственному почину заговорив об интересующем меня предмете.
Было это четвертого марта — я хорошо запомнил эту дату. Я поднялся несколько раньше обычного и застал Шерлока Холмса за завтраком. Наша квартирная хозяйка так привыкла к моим поздним трапезам, что не поставила для меня прибора и не сварила на мою долю кофе. Со свойственной роду человеческому беспричинной раздражительностью я позвонил и отрывисто объявил, что хочу есть. Потом я схватил со стола какой-то журнал и попытался с его помощью убить время — компаньон же мой молча жевал кусок поджаренного хлеба. Заглавие одной статьи было отчеркнуто карандашом, и я, естественно, начал ее просматривать.
Называлась статья довольно претенциозно: «Книга жизни». Автор пытался показать, как много может узнать проницательный человек из пристального и систематического наблюдения за тем, что происходит вокруг. Статья показалась мне удивительной смесью осмысленности и бестолковщины. Анализ был тонким и вдумчивым, но окончательные выводы выглядели бездоказательными и надуманными. Автор утверждал, что мимолетное выражение лица, движение мускула или взгляд могут выражать самые сокровенные человеческие мысли. Человека, умеющего наблюдать и анализировать, обмануть невозможно. Умозаключения его будут столь же однозначны, как выкладки Эвклида. Людям непосвященным результаты его рассуждений могут показаться столь невероятными, что он рискует прослыть некромантом, пока не разъяснит, как именно пришел к конечным выводам.