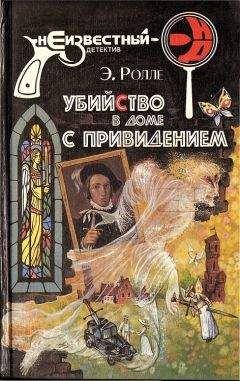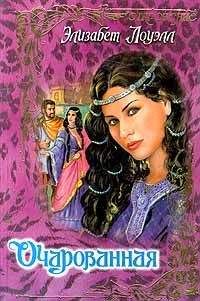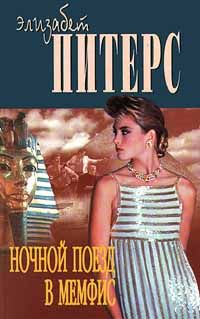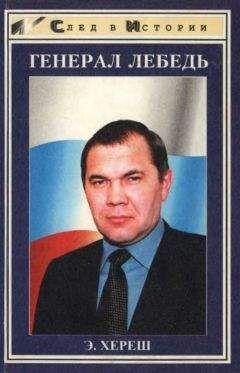Элизабет Ролле - Венец королевы
Джек машинально взял чек, затем судорожно скомкал его и швырнул на пол.
— Мне не нужны ваши деньги!
— Слушайте, вы! — с яростью сказал Трэверс. — Показывайте свои актерские способности в другом месте!
— Гордон, прекратите! Вы сами не понимаете, что делаете! — пытался вмешаться Бэрридж, но на него никто не обратил внимания.
— Вы хотите, чтобы я ушел? — вдруг странно ровным тоном, противоречащим отчаянию в его глазах, спросил Джек. — Насовсем?
— Кажется, я выразился достаточно ясно. Я не желаю вас больше видеть! Если пятисот фунтов для этого мало, я готов заплатить больше. Сколько вам надо?
«У него в кармане заряженный револьвер», — подумал Бэрридж, сам не зная почему, подумал на полсекунды раньше, чем увидел оружие у Джека в руке.
Трэверс понял, что он собирается сделать, лишь когда Джек приставил дуло револьвера к своей груди.
— Не смей! — отчаянно крикнул он, бросаясь к нему, но было поздно: Джек спустил курок.
Однако от крика Трэверса его рука дрогнула, и дуло револьвера отклонилось. Падая, он еще почувствовал, как кто-то подхватил его на руки, но уже не мог различить кто.
Он провалился в бездонную черную пропасть, прорезаемую вспыхивающими огромными, стремительно надвигающимися радужными пятнами. Мрак становился все плотнее, обволакивая его подобно густому, вязкому потоку и растворяя в себе его «я». Но, погружаясь в темноту, он чувствовал, что за его гаснущее сознание борется какая-то сила — чей-то голос упорно звал его назад, вырывал из цепких объятий забытья. Этот голос был единственной нитью, связывающей его с миром, который он покидал, и надо было сделать всего одно усилие, чтобы схватиться за нить, но что-то останавливало его, парализуя волю, и он скользил мимо. «Джек, Джек!» доносилось издалека, но он продолжал уходить, и голос звучал все слабее; еще миг — и оборвется единственная связь со всем тем, от чего он отрекся простым движением пальца, спустившего курок…. Но в этот последний миг в зовущем его голосе прозвучала такая боль, что из его сознания исчезло то, что, мешало откликнуться, и он стал вырываться из липкого мрака.
— Джек! — раздалось над ним совершенно явственно.
Он открыл глаза. Белый потолок… голая стена… Он скосил глаза туда, откуда слышал голос, и увидел Трэверса. Губы Джека дрогнули.
— Молчите, — торопливо сказал Трэверс, — вам нельзя говорить. — Джек опять посмотрел на потолок, затем перевел взгляд на Трэверса. Тот, уловив в его глазах вопрос, пояснил:
— Это больница Бэрриджа.
Веки раненого бессильно опустились, но потом, превозмогая дурноту, он снова открыл глаза и посмотрел Трэверсу в лицо. Тот понял.
— Простите меня, Джек. Вы ни в чем не виноваты. Не думайте об этом, все будет хорошо. Вам необходима операция, но Бэрридж ручается, что все пройдет отлично.
Трэверс лгал. По мнению Бэрриджа, шансов у Джека было очень мало, и бодрый тон давался Трэверсу с неимоверным трудом. Джек слушал так, будто вполне ему верил, но вдруг его покрытые кровавой пеной губы дрогнули, и он едва слышно произнес:
— Не огорчайтесь… из-за меня… что так кончилось.
— Джек, вы поправитесь! — воскликнул Трэверс, уже не в силах справиться с овладевшим им отчаянием; он чувствовал себя убийцей.
— Да, — почти беззвучно выговорил Джек. — И мы поедем путешествовать… в тропики… где пальмы… — Он уже наполовину бредил.
Двери операционной бесшумно закрылись.
Эпилог
Молодой мужчина неподвижно сидел возле мраморного надгробия, в руке его тлела забытая сигарета. Жар подобрался к самым пальцам. Вздрогнув, он очнулся и смял окурок, затем, встав, провел ладонью по мраморной плите, сбрасывая принесенные ветром травинки и лепестки цветов, постоял еще немного и пошел вниз, к дороге. На повороте тропинки он оглянулся. Заходящее солнце, пробиваясь через крону одинокого дерева, высвечивало высеченные на мраморе слова: «Гордон Трэверс… родился… погиб в… при восхождении на пик…»
Он приезжал сюда каждый год весной, в тот день, когда, разбившись на скалах, погиб Трэверс. В это время по всей долине расцветали яркие альпийские маки. Он много раз рисовал этот луг с виднеющимися вдали горами, то освещенный ярким утренним солнцем, то нахмурившийся под грозовым небом, но картин этих никому не показывал. Одна из них, запечатлевшая горы на фоне низкого, потемневшего неба, словно застывшего в ожидании первой молнии, висела в его комнате рядом с портретом Трэверса, написанным в тот год, когда они жили в Риме. Хотя он тогда еще только начинал учиться живописи, этот портрет удался больше, чем более поздние работы.
Как художник Джек Картмел был известен очень узкому кругу. Он никогда не участвовал в выставках, хотя друзья говорили, что это неразумно, и показывал свои картины только знакомым. Ни одну из них он не повесил в картинной галерее замка, хотя кое-что там все же изменилось: два полотна работы неизвестного итальянского мастера, символизирующие расцвет и упадок Греции, он перевесил в библиотеку, где любил сидеть вечерами. Иногда, дождавшись, когда все в доме лягут спать, он шел в кабинет, доставал из сейфа черный футляр и задумчиво смотрел на мерцающую в полумраке диадему.