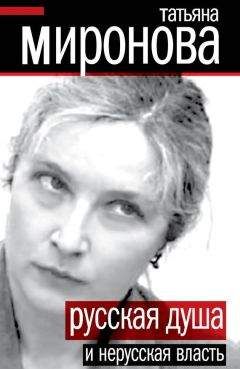Луи Байяр - Всевидящее око
После того случая я стал верить в правдивость мысленных образов. Но сейчас в моих мыслях не всплыл ни один образ. Стоило мне увидеть чье-то лицо, как оно тут же меняло очертания, множилось, а потом пропадало.
– Ну что, не напрасно я гонял вас на крышу, – сказал я По. – Еще раз спасибо за помощь. А теперь вам самое время идти готовиться к параду, а меня ждет капитан Хичкок, так что я…
Повернувшись, я увидел моего помощника стоящим на коленях в траве. Опустив голову, он что-то бормотал. Правильнее сказать, мычал.
– Что это вы разглядываете, кадет По?
– Я их увидел еще с крыши, – ответил он. – Они не вписывались в общую картину, и потому я вам не…
Он опять замычал что-то нечленораздельное.
– Я не понимаю, о чем вы.
– Подпалины… Следы пламени! – воскликнул он. – Дайте мне вашу книжку.
Вырвав оттуда листок, По уложил его прямо на траву и стал заполнять бумагу быстрыми косыми штрихами. Казалось, они покроют листок целиком. Но затем он поднял листок и, пользуясь неярким солнцем, взглянул на просвет. Я тоже взглянул. Увиденное напоминало рисунок, сделанный пальцем на запотевшем оконном стекле.
– Это же буквы… SHJ, – сказал По. – И первая может являться начальной в слове «общество»[57].
Мы перебрали в памяти все мыслимые обществу вплоть до Общества любителей спаниелей. Видел бы нас кто-нибудь в ту минуту стоящими на коленях и бормочущими как двое помешанных!
– Стойте! – вдруг сказал По.
Он еще раз взглянул на листок и тихо добавил:
– Если буквы перевернуты, значит, и стоять они должны в обратном порядке.
Я тут же вырвал из записной книжки новый листок и переписал буквы справа налево.
– Иисус Христос, – прошептал По.
Я присел на корточки, растирая затекшие колени. Затем полез в карман за табаком.
– В старые времена такое сокращенное написание имени Христа было очень распространено, – пояснил я. – Правда, я никогда не видел, чтобы буквы переворачивали.
– Стало быть, написавший эти буквы взывал не к Христу, – сказал По. – Он обращался к тому, кто диаметрально противоположен Иисусу.
Я сидел в траве, пожевывая табак. По разглядывал вереницу облаков. Где-то посвистывал черный дрозд. Ему отвечала древесная жаба. Но от безмятежности раннего вечера не осталось и следа.
– У меня есть друг, который, как мне думается, сможет нам чем-нибудь помочь, – сказал я.
По едва взглянул на меня.
– Вы в этом уверены?
– Да. Он большой знаток разных символов, ритуалов и подобных вещей. К тому же у него богатое собрание книг, посвященных…
– Оккультизму, – договорил за меня По.
Глотая сладковатую табачную слюну, я был вынужден признать, что парень совершенно прав. Без оккультных книг наше расследование вряд ли куда-нибудь продвинется.
– Он – восхитительный человек. Может, вы даже слышали его имя. Это профессор Папайя.
– Такого имени я не слышал, – усмехнулся По. – Уж больно оно диковинное.
Я рассказал парню, что Папайя по происхождению индеец. Точнее, наполовину индеец. Четверть крови у него французская, а другая четверть – бог знает какая. Недоверчиво усмехаясь, По спросил меня, не преувеличиваю ли я, называя этого человека профессором. Я ответил, что Папайя – настоящий ученый, а не индейский шаман. Вдобавок он пользуется большим успехом у дам из высшего общества. Одна такая дама за час беседы с Папайей заплатила ему двенадцать долларов серебром.
По небрежно пожал плечами.
– Надеюсь, мистер Лэндор, вы сумеете как-то отблагодарить его за потраченное на нас время. Я, к сожалению, поиздержался, а мистер Аллан не желает присылать деньги даже на покупку чертежных инструментов.
Я сказал, что он может не беспокоиться. Все расходы по оплате услуг профессора я беру на себя. Мы простились. Я проводил взглядом его худощавую фигуру, неспешно бредущую к парадному плацу.
Я пошел к гостинице, едва сдерживая смех. Я нашел способ отблагодарить профессора Папайю; способ, который устроит его больше, нежели деньги. Я приведу ему владельца головы, достойной профессорских измерений. Ваша голова, Эдгар Аллан По, наверняка будет интересна для этого ученого мужа.
Рассказ Гэса Лэндора
12
3 ноября
Дом профессора Папайи находится всего в какой-то лиге[58] от моего, однако путь туда достаточно труден. Тропа все время идет вверх, и чем ближе к профессорскому жилищу, тем менее проходимой она становится. Последние пятьдесят ярдов вынуждают вас слезть с лошади, привязать ее к ближайшему дереву, а самим продираться сквозь живую изгородь из кедровника. Ваши усилия не остаются без награды – вы попадаете на лужайку, окаймленную кустами жасмина и сладкой жимолости. Посреди стоит давным-давно засохшее грушевое дерево, густо обвитое стеблями и цветками бигнонии[59]. Едва ли не на каждой ветке висит сплетенная из ивы клетка – пристанище пересмешников, иволги, рисовых трупиалов и канареек. Весь этот птичий мирок беспрерывно свистит, чирикает и верещит с восхода и до заката. От подобной какофонии хочется заткнуть уши. У Папайи на этот счет есть целая теория. Профессор считает, что при известном терпении можно услышать в этом хаосе звуков некую гармоничную закономерность. Если не услышите – тоже не беда: ваши уши притерпятся к птичьему гомону, и вы перестанете обращать на него внимание.
Можно было бы отправиться к профессору в тот же вечер (конечно, если бы По нашел способ улизнуть из расположения академии). Но я не стал торопиться. Во-первых, я сомневался, что впотьмах мы найдем дорогу к дому Папайи. А во-вторых, профессор не любил, когда к нему являлись без предупреждения. Посему я отправил к Папайе посланца с запиской.
На следующее утро кадет По, едва проснувшись, добросовестно сжевал кусок мела, а затем предстал перед доктором Маркисом и показал ему свой совершенно белый язык. Доктор снабдил парня порошком каломели[60] и дал освобождение от занятий. После этого «болящий» По зашагал к дровяным сараям, где отодвинул доску в заборе и покинул расположение академии. Мы встретились с ним невдалеке от караульного поста. Я помог кадету забраться на Коня, и мы поехали в гости к профессору Папайе.
Утро было облачным и довольно холодным. Единственное тепло исходило от деревьев, росших среди гранитных уступов, и от опавших листьев. Они устилали желто-красным ковром поверхность луж, камни и островки губчатого влажного мха. Тропа, по которой мы ехали, круто поднималась вверх. Не знаю, каково было моему верному Коню нести на себе двоих. Зато По, воодушевленный путешествием, говорил без умолку. Он рассказывал мне о Тинтернском аббатстве[61], о принципе возвышенного у Берна[62] и с пафосом утверждал, что самым великим поэтом Америки является Природа. Я рассеянно отвечал, думая совсем о другом. Хорош я, нечего сказать! Подбил кадета обманным путем покинуть расположение академии, хотя прекрасно знал, что Хичкок и другие офицеры ежедневно проверяют казармы. Горе тому кадету, который сказался «больным», но не ответил на двойной стук в дверь его комнаты!