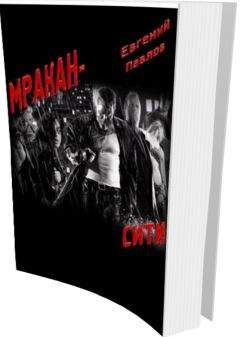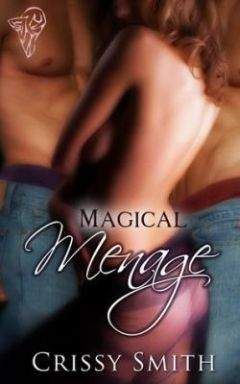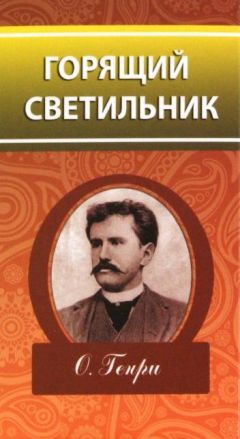Жорж Сименон - Письмо следователю
Мартина приходила в восемь мертвенно-бледным январским утром. Я в это время завтракал на кухне, Арманда еще задерживалась наверху, в жилых комнатах.
Мартине было худо. Ей приходилось за многое расплачиваться. Она не жаловалась, не возмущалась. За калиткой, на гравии аллеи, поскрипывавшем у нее под ногами, окидывала взглядом окно, за которым должен был находиться я, и, еще не видя меня, слабо улыбалась: понаблюдав за ней сверху, вы решили бы, что ее беглая нежная улыбка адресована занавеске.
Входила она не через подъезд, а через приемную. Так решила Арманда. Почему — не знаю. Я не спорил. Коль скоро Мартина у нас на службе, держаться она должна соответственно. И уверяю вас, я ни на кого за это не в обиде.
Замечала ли что-нибудь Бабетта? Это меня нисколько не беспокоило. Я торопливо допивал кофе, проходил через прихожую к себе в кабинет, где Мартина тем временем успевала надеть халат, мы секунду-другую смотрели друг на друга и обнимались.
Разговаривать мы не смели, господин следователь.
Это делали наши глаза. Поверьте, я не страдаю манией преследования, но моя мать давно усвоила привычку ходить беззвучно, и с ней можно было столкнуться там, где меньше всего ждешь.
Думаю, что у Арманды это была не мания, а принцип.
Более того, она считала это своим правом, которым пользовалась без всякого стыда: хозяйка дома обязана знать, что творится под ее кровом. Мне случалось заставать ее, когда она подслушивала под дверью, и она ни разу не покраснела, не выказала даже тени смущения.
С таким же точно видом она отдавала бы распоряжения прислуге или рассчитывалась с поставщиком.
Это было ее право, ее долг. Ладно, мы мирились с этим. И с тем, что нам сразу же приходилось впускать первого больного: дверь приемной немного скрипела и наверху, хорошенько прислушавшись, можно было различить ее скрип.
За утро нам порой удавалось лишь обменяться осторожным взглядом да коснуться друг друга пальцами, когда Мартина протягивала мне телефонную трубку или помогала накладывать шов, промывать рану, держать ребенка, чтобы тот не вырывался.
Вы знаете, преступников, но не знаете больных. Первых трудно заставить говорить, вторых — молчать, и вы не представляете себе, что значит долгими часами наблюдать, как они проходят перед тобой, загипнотизированные мыслью о своих недомоганиях, болячках, сердце, моче, стуле. И мы вдвоем, в двух шагах один от другого, до бесконечности слушали одно и то же, в то время как нам надо было сказать друг другу столько жизненно важного!
Если бы меня сегодня спросили, какова диагностика любви, каковы ее первые симптомы, я ответил бы: «Прежде всего потребность в присутствии».
Я недаром сказал «потребность»: это так же настоятельно, властно, безотлагательно, как потребности физические.
«Во-вторых, стремление объясниться».
Да, стремление объяснить себя и объяснить себе другого. Вы безгранично восхищены, безгранично уверены — свершилось чудо, на что никогда не надеялись, чего не вправе были требовать от судьбы, что она дала вам, может быть, просто по рассеянности, безгранично боитесь потерять его и потому ощущаете потребность удостовериться, что не ошиблись, а чтобы удостовериться, нужно понять.
Вот, например, я был накануне в доме г-жи Дебер.
Прощаясь, Мартина бросила одну фразу. Эта фраза всю ночь не идет у меня из головы. Целыми часами я верчу ее так и этак, пытаясь докопаться до сути. Внезапно меня осеняет: да ведь эти слова открывают передо мной новые горизонты, проливают новый свет на нас обоих и наше невероятное приключение!
Утром появляется Мартина. Но у меня нет возможности немедленно сопоставить ее мысли со своими, и я вынужден долгие часы жить в неуверенности, в тревоге.
Это не ускользает от нее. Она находит случай шепнуть мне в дверях, за спиной уходящего пациента:
— Что с тобой?
И хотя в глазах у нее тревога, я чуть слышно отвечаю:
— Ничего. Потом…
Нас обоих сверлит нетерпение, и мы через головы больных обмениваемся взглядами, в которых читается столько вопросов.
— Ну хоть одно слово!..
Одно слово может подтолкнуть ее на верный путь, потому что ей страшно, потому что мы все время боимся себя и окружающих. Но как выразить такие вещи одним словом?
— Ничего серьезного, уверяю тебя.
Поехали! Следующий! Следующий! Киста, ангина, фурункул, краснуха. Сейчас важно только это, не так ли?
Нам не хватило бы целого дня, а у нас воровали крохи нашего времени, и когда ценой лжи и уловок мы оставались наконец одни, когда я, придумав какую-нибудь чушь, чтобы оправдать вечерний выход в город, приезжал к Мартине, нас терзал такой плотский голод, что нам уже было не до разговоров.
Главной, капитальной проблемой был вопрос, почему мы полюбили друг друга, и он долго мучил нас: от его решения зависела наша вера в нашу любовь.
Решили мы его или нет?
Не знаю, господин следователь. И никто не узнает.
Почему после первого же вечера в Нанте, после нескольких часов, которые я первый готов назвать безобразными, мы, хотя нас еще ничто не связывало, ощутили такой голод друг по другу?
Прежде всего были ее оцепеневшее от напряжения тело, раскрытый рот, обезумевшие глаза. Сначала все это показалось мне непроницаемой тайной, потом — откровением.
Я ненавидел девицу из бара с ее гримасками и развязностью, ненавидел зазывающий взгляд, которым она окидывала мужчин.
Но когда я ночью держал ее в объятиях и, заинтригованный тем, чего не понимал, внезапно включил свет, я заметил, что вот-вот задушу маленькую девочку.
Девочку, живот которой от лобка до пупка был обезображен шрамом, девочку, спавшую со многими мужчинами — теперь я мог бы вам точно сказать, со сколькими, где, как, при каких обстоятельствах и даже в какой обстановке. И тем не менее девочку, изголодавшуюся по жизни, «до темноты в глазах», говоря языком моей матери, страшившуюся жизни и цепенеющую от этого страха.
Страшившуюся жизни? Во всяком случае, своей, самой себя, того, что она считала своим «я», а судила она о себе, клянусь в этом, с пугающим смирением. Еще совсем ребенком она уже боялась, считала себя не такой, как другие, хуже других и — представляете! — исподволь придумала себе свое «я» по образцу, вычитанному в иллюстрированных журналах и романах. Чтобы стать похожей на других, чтобы обрести уверенность в себе.
Все равно как если бы я начал играть на бильярде или в белот.
Отсюда — сигареты, бары, высокие табуреты, нога, закинутая на ногу, вызывающая фамильярность с барменами, заигрывание с первыми попавшимися мужчинами.
— Не такая уж я уродина…
Это была ее излюбленная фраза. Она без конца повторяла ее, по всякому поводу лезла ко всем с одним и тем же вопросом: