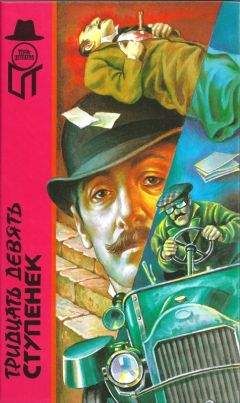Джон Бёкан - Тридцать девять ступенек
Он замолчал и, протянув руку к стаканчику, сделал большой глоток.
— …подойдя к окну, я заметил на противоположной стороне улицы человека, который показался мне знакомым. Я выхожу из дома лишь поздно вечером, да и то ненадолго. И вот я узнаю от портье, что тот человек разговаривал с ним и оставил для меня свою визитку. Имя, написанное на ней, уже давно не давало мне покоя.
Я увидел, как побледнело лицо моего собеседника, и у меня исчезли последние сомнения в правдивости его рассказа.
— Что вы собираетесь делать? — спросил я.
— Я, как вы понимаете, на крючке, и единственное, что мне теперь остается, это сделать вид, будто я покинул этот бренный мир. Тогда мои ищейки станут спать спокойно.
— Вы думаете, это возможно?
— Я сказал слуге, что скверно себя чувствую. При этом у меня был такой вид, словно я вот-вот испущу дух. Мне, как вы уже могли заметить, легко удаются всякого рода маскарады. Затем я нанял грузового извозчика и доставил с его помощью сундук, в котором находился труп. При желании вы всегда можете найти в Лондоне такого рода предмет. Затем я лег в постель, попросив слугу дать мне воды, чтобы запить таблетку, и сказал ему, что он может идти. Слуга хотел пойти за доктором, но я рассердился, накричал на него, и он ушел. Едва за ним захлопнулась дверь, как я вскочил с постели. Умерший был моего роста, и в его лице было что-то отдаленно напоминавшее мое. Он умер, по-видимому, от алкогольного отравления, так что я позаботился о том, чтобы в квартире нашли несколько бутылок из-под спиртного. Я надел на него свою пижаму и перетащил на кровать. Потом переоделся в тот костюм, который сейчас на мне, и с нетерпением стал поджидать вас.
Он замолчал и выжидающе смотрел на меня. За свою жизнь я выслушал немало крутых историй и пришел к выводу, что о достоверности рассказа надо судить не по его деталям, а по характеру рассказчика.
— Дайте-ка мне ключ от вашей квартиры, — сказал я. — Хоть я вам и верю, но посмотреть своими глазами никогда не мешает.
— Вы, конечно, имеете на это право, но, — покачал он головой, — ключ должен был остаться в кармане пиджака, иначе никто не поверит. Подождите всего одну ночь, завтра вы во всем убедитесь сами.
— Хорошо, — сказал я после секундного раздумья. — Вы переночуете в этой комнате, но я запру вас в ней на ключ. Если же вы попытаетесь ускользнуть, то предупреждаю вас, мистер Скаддер, пистолетом я владею так же хорошо, как вы пером.
— Я был в этом уверен, — сказал он, вскакивая из кресла с какой-то юношеской энергией. — Хотя вы до сих пор не представились мне, сэр, я никогда не ставил под сомнение способности белого человека. У меня к нам просьба. Не могу ли я воспользоваться вашей бритвой?
Я провел его в ванную и оставил одного. Через полчаса оттуда вышел безбородый, тщательно выбритый джентльмен, который, судя по выправке, манере говорить и торчащему в правой глазнице моноклю, был находящимся в отпуске британским офицером, служащим в Индии. Я не заметил в его речи ни малейших следов американского акцента.
— Боже! — воскликнул я. — Да вас не узнаешь, мистер Скаддер!
— Мистера Скаддера больше не существует, — строго заметил он мне. — Перед вами капитан Теофилус Дигби, которому командование предоставило отпуск по семейным обстоятельствам. Прошу вас не забывать об этом, сэр.
Постелив ему на диване, я запер дверь на ключ и прошел в свою комнату. Уже засыпая, я вдруг улыбнулся — бывает же на свете такое!
Меня разбудил шум — кто-то стучал кулаком в дверь. Я сообразил, что это пришедший делать уборку Паддок ломится в курительную комнату. Этот Паддок был ленив и глуп, как гиппопотам, но именно поэтому я мог быть уверен, что он не проболтается.
— Да перестаньте же, наконец, — сказал я, выходя из своей двери. — У меня остановился мой друг капитан… — я тотчас осекся, потому что забыл его имя. — Приготовьте-ка нам лучше завтрак.
Я сообщил Паддоку, что врачи рекомендовали моему другу полный покой, что его не должны беспокоить ни чиновники министерства по делам колоний, ни даже сам премьер-министр — иначе его здоровью будет нанесен непоправимый ущерб. Монокль и неподражаемая манера цедить сквозь зубы слова, произвели на Паддока настолько сильное впечатление, что он говорил Скаддеру то и дело «сэр», и я с усмешкой подумал, что я не удостоился этой чести ни разу в течение месяца.
Позавтракав, я отправился по делам в Сити и вернулся домой только к обеду. Я заметил, что у лифтера было вытянутое, словно он проглотил какую-нибудь гадость, лицо.
— Скверные дела, сэр, — сообщил он мне. — Джентльмен из пятнадцатой дал дуба. Тело только что увезли в морг. Полиция осматривает квартиру.
Я поднялся наверх. Инспектор и двое бобби деловито осматривали квартиру. Я задал им несколько идиотских вопросов, и они быстро выпроводили меня вон. Мне удалось также поговорить со слугой Скаддера. На все мои вопросы он плаксивым голосом отвечал, что ничего не знает. Он был глуп и скучен, как церковный служка. Я дал ему полкроны, чтобы немного утешить его.
На следующий день я посетил открытое слушание о дознании, проводившемся полицией. Представитель одного из издательств утверждал, что покойный был американцем, желавшим заключить контракт на поставку бумаги для издательства. В ходе дознания было решено, что покойный умер от слишком большой дозы алкоголя. Все бумаги по этому делу передавались американскому консулу. Когда я рассказал о дознании Скаддеру, он очень внимательно меня выслушал, а потом сказал: «Жаль, что меня там не было. Ведь при этом испытываешь такое же острое ощущение, словно читаешь собственный некролог».
После этого он два дня сидел в своей комнате, много курил, о чем-то сосредоточенно размышляя и делая пометки в записной книжке. Вечерами мы играли в шахматы. У него были большие способности — мне ни разу не удалось у него выиграть. Мне показалось, что за эти два дня его нервы немного успокоились, но уже на третий день я увидел, что он постоянно листает календарь, видимо, подсчитывая и рассчитывая свои действия на все дни до 15 июня, и его глаза опять блестят тем лихорадочным блеском, как тогда, когда я увидел его в первый раз. Он подходил на цыпочках к входной двери и стоял возле нее, прислушиваясь. Несколько раз он задавал мне один и тот же вопрос, можно ли доверять Паддоку? Он становился капризным и раздражительным, как больной ребенок, и тотчас же извинялся. Я на него нисколько не обижался: при такой работе, как у него, вообще легко сойти с ума. Он мне признался, что не столько думает о себе, сколько об успехе своего дела. Вечером, после шахмат, он мне сказал: