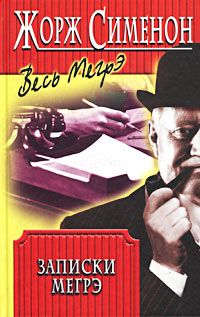Жорж Сименон - Окно в доме Руэ
На глазах у нее наворачиваются слезы, она готова расплакаться, того и гляди заревет прямо здесь, за столом, если не сделает над собой усилия, но это были бы беспричинные рыдания: она не думает о человеке, который не пришел сегодня, она несчастна вообще: ничего не случилось, просто все плохо.
— Выпейте перед сном грог с двумя таблетками аспирина.
Глядя на стены квартиры, можно изучить всю историю семьи Руэ. Среди прочего там обнаружится фотография г-жи Руэ в юности, в костюме для тенниса, с ракеткой в руке, и — подумать только! — это была тоненькая, юная девушка.
Дальше в черной рамке — диплом инженера, полученный г-ном Руэ, и, для симметрии, фотография завода его тестя, на котором он в двадцать четыре года начинал работать.
Он носил волосы ежиком, одевался строго, без затей — этой манере он останется верен на всю жизнь, ведь он человек трудовой и все его время посвящено труду.
Кто и когда трудился больше г-на Руэ?
Свадебный снимок. Двадцативосьмилетний инженер женится на дочке хозяина.
Все лица серьезны, проникнуты безмятежным довольством, неуязвимым достоинством, как в нравоучительных историях. Рабочие прислали делегацию.
Для них в одном из заводских ангаров устроили банкет.
Завод тогда был невелик. Позже Руэ создал огромное предприятие, своими силами, трудясь день за днем, минуту за минутой; несколько лет назад это дело было продано за сто миллионов — а все-таки ни он сам, ни его жена так и не забыли, что он женился на дочке хозяина!
— Жермен, ты уходил из бюро сегодня после обеда?
Ему уже стукнуло шестьдесят. Он такой же высокий, прямой, широкоплечий, как прежде. Волосы поседели, но остались густыми. И он вздрагивает. Медлит с ответом. Знает, что в словах жены всегда кроется второй смысл.
— Работы было столько, что я уже не припомню… Погоди-ка… В какой-то момент Бронстейн… Нет… По-моему, я не отлучался… А почему ты спрашиваешь?
— Потому что в пять я звонила, а тебя не было.
— Ты права… В пять я провожал клиента, господина Мишеля, до угла улицы… Хотел сказать ему пару слов без Бронстейна…
Она и верит ему, и не верит. Скорее, все же не верит. Сейчас дождется, пока он ляжет, обшарит его бумажник, пересчитает деньги.
Он продолжает есть без малейшего раздражения, спокойный и невозмутимый.
Это тянется так давно! Он никогда не восставал и уже не восстанет. Его тело словно заросло корой, и людям кажется, что под ней ничего нет, потому что он привык все таить про себя. Впрочем, внутри тоже нет никакого возмущения, так, немного горечи. Он трудился, много трудился. Так много трудился, что эта масса труда, эта гора человеческой работы, которую он вынес на своих плечах, давит на него, прижимает к земле, как перина в ночных кошмарах, когда она разбухает и грозит заполнить собой всю спальню.
У него был сын. Вероятно, этот ребенок был его кровью и плотью, да, в этом нет никакого сомнения, но у него никогда не было никаких родственных чувств к сыну; он рассеянно смотрел, как мальчик растет, не интересуясь вялым, болезненным существом; он пристроил сына в одну контору, потом в другую, потом, когда продал дело, — врач прописал ему покой — сунул парня, как неодушевленный предмет, на приличную должность в одном предприятии, производящем сейфы, где у него были интересы.
Три человека едят и дышат. Свет заостряет черты лиц, выявляя несходство.
Сесиль с отвращением выжидает у дверей, когда можно будет переменить тарелки, и со стороны похоже, что она ненавидит всех троих.
В одном из баров на Елисейских полях сидит сейчас высокий, безукоризненно одетый человек с бледным лицом, с нежной и язвительной складкой губ; он потягивает коктейль, проглядывая отчеты о скачках в газетах, и думать забыл об улице Монтеня.
Молодые мужчины и женщины, у которых вся жизнь впереди, пьют, дразня и волнуя друг друга, в полутемной мастерской на улице Мон-Сени, а Доминика, сидя в одиночестве перед чуть заметным огоньком в печи, машинально придвигает к себе корзинку с чулками, вдевает нитку в иглу, наклоняется, всовывает деревянное лакированное яйцо в серый чулок, на котором внизу уже нет живого места: штопка на штопке. Доминика не голодна. Она привыкла к отсутствию еды. Говорят, что желудок приспосабливается, сжимается, а у нее желудок, наверно, совсем крошечный, потому что она бывает сыта самой малостью.
Тишина поднимается над черной лоснящейся мостовой, сочится из домов, из окон, за которыми, отгородясь от улицы шторами, живут люди; тишина струится по стенам, дождь-это тоже тишина, его монотонное журчание-это форма тишины, потому что оно помогает острее почувствовать пустоту.
Вот такой же дождь, еще более затяжной и частый, с внезапными порывами ветра, силившимися вывернуть все зонтики наизнанку, шел однажды вечером, когда она случайно забрела на улицу Кокильер неподалеку от Центрального рынка: ее занесло туда в поисках пуговиц для старого платья, которое она отдавала перекрасить. Рядом с зиявшими подъездами в изобилии красовались медные и эмалированные таблички — множество имен, профессий, контор, какие и в голову никогда не придут — везде расшатанные лестницы, лотки, прячущиеся под укрытием ворот, какое-то копошение в темноте, пропахшей жареной картошкой, которую торговка готовила прямо здесь, на ветру.
Доминика видела, как из одного такого подъезда вышел г-н Руэ. Она и не подозревала, что он каждый день своим размеренным, исполненным достоинства шагом, как служащий к себе в контору, ходит в такое место, как это. Как ему удается миновать эти грязные улицы, не испачкав своих всегда безупречных башмаков? Ботинки — это его щегольство. Время от времени он наклонялся, чтобы убедиться, что на черном блестящем шевро не появилось ни единого пятнышка грязи.
ОБЩЕСТВО ПРИМА ТОВАРЫ ИЗ ПАРИЖА Лестница Б-Антресоль — в конце коридора налево.
На тусклой эмалированной табличке изображение руки, указывающей дорогу.
В антресоли, в сумрачных комнатах с шершавыми полами и такими низкими потолками, что их можно задеть головой, с пятнами плесени на обоях, по всем углам громоздятся товары, ящики, тюки, картонные коробки, а в них — синие и зеленые расчески, пластмассовые пудреницы, блестящие, никелированные, лакированные, пошлые, кое-как изготовленные вещицы, какими торгуют на базарах и ярмарках; с утра до вечера с ними возится женщина лет пятидесяти, она же принимает клиентов; дверь постоянно закрыта, в нее стучат с опаской, а в комнате, за желтым письменным столом, сидит спиной к огромному сейфу г-н Бронстейн с блестящим лысым черепом, на котором уцелела только одна прядь черных, словно нарисованных китайской тушью волос.
Слева от письменного стола — одно-единственное кресло, ветхое, но удобное, за креслом кран — мыть руки, кусок мыла и полотенце с красной каемкой, отдающее казармой.