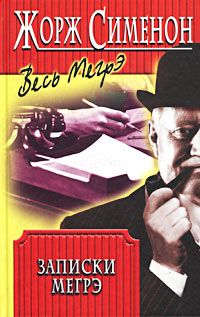Жорж Сименон - Окно в доме Руэ
Глава 2
— Сесиль! Не знаете, вернулась госпожа Антуанетта?
— Час назад, мадам.
— Что она делает?
— Легла на кровать, одетая, прямо в грязных туфлях.
— Наверное, заснула. Попросите ее подняться. Скоро придет муж.
Темнеет рано; закрытые окна перекрывают доступ сырому и холодному уличному воздуху в маленькие прогретые ячейки, где прячутся люди. Может быть, из-за этой густой желтизны света, сочащегося сквозь заслон стекол и штор, из-за дождя, укутывающего любые движущиеся предметы пеленой безмолвия, люди в домах кажутся странно неподвижными и, даже когда шевелятся, их жесты странно неторопливы, их молчаливая пантомима разворачивается в мире кошмаров, где словно на веки вечные застыли по своим местам вещи, — угол буфета, отблеск выщербленного фаянса, край приотворенной двери, мутная глубина зеркала.
Огонь у Доминики уже не горит, но газом еще пахнет: этот неистребимый запах встречает ее и подтверждает, что она дома. Она бедна, это не выдумки.
Доминика подсчитывает траты с точностью до сантима не ради забавы. Пускай подчас она и забавляется этим и получает от этого удовольствие, как религиозный фанатик от умерщвления плоти, но так было не всегда; это ее бессознательная, инстинктивная самозащита: Доминика превращает железную необходимость в порок, чтобы ее очеловечить. В квадратной печурке никогда не тлеет больше одного полена зараз; полено невелико, и Доминика старается, чтобы оно горело подольше: в этом искусстве она достигла больших высот. Она шевелит полено по десять раз, меняя наклон, чтобы оно обугливалось только с одной стороны, а уж потом с другой; она, как в керосиновой лампе, регулирует в печи пламя, лижущее древесину, а уходя, никогда не забывает его загасить.
Тепло сочится тонкой струйкой, которая отклоняется или иссякает, чуть только откроешь, а потом закроешь дверь.
Когда она вошла, под ногами у нее хрустнула бумага: она подобрала с полу письмо.
«Мадмуазель, Мне совестно, что я опять Вас подвожу, по крайней мере отчасти. Сегодня я дважды наведывался в газету, где мне должны заплатить, но кассира так и не застал. Мне твердо обещали, что завтра он будет на месте. В противном случае, если эти люди попросту надо мной издеваются, я предприму другие меры.
Прошу Вас, не думайте, что с моей стороны речь идет о недобросовестности.
В подтверждение своих благих намерений прилагаю в счет долга сумму, которую Вы, боюсь, сочтете смехотворной.
Пишу Вам это письмо, потому что мы сегодня будем обедать у друзей на другом конце Парижа и вернемся очень поздно, а может быть, и не придем ночевать. Так что не беспокойтесь из-за нас.
Примите, мадмуазель, заверения в моих самых почтительных и преданных чувствах.
Альбер Кайлъ».
Сегодня двадцатое. Жильцы до сих пор не заплатили за квартиру. Чемодан снова уносили из дому, но не для того, чтобы вернуть назад зимнее пальто Лины — она так и ходит в костюмчике, — а для того, чтобы сбыть белье из ее приданого. Его продали евреям на улице Блан-Манто.
Они задолжали Одбалям и другим лавочникам по соседству, больше всего колбаснику, потому что по ресторанам они уже совсем не ходят; украдкой приносят немного еды к себе в комнату, где по-прежнему нет электроплитки.
Пока они одни, то от этого не страдают. Но Альбер Кайль избегает Доминику; дважды он посылал к ней Лину просить отсрочки.
Доминика беднее их, потому что ей уже не разбогатеть. Сегодня она останется без обеда, потому что чай в кафе на Елисейских полях — она не устояла и съела одно из пирожных, выставленных на столике, — обошелся ей дороже, чем обычная трапеза. Теперь она ограничится чашкой подогретого кофе.
Квартиранты отправились на улицу Мон-Сени, на самой вершине Холма, — они завели себе там друзей. Собираются по десять-двенадцать человек у кого-нибудь в мастерской, в глубине двора; женщины в складчину покупают колбасу, ветчину; мужчины раздобывают вино или чего покрепче; нарочно сидят в полутьме, валяются на продавленном диване, растягиваются на полу, подложив под себя подушки или подстелив коврик, пьют, курят, спорят, а за окном в безнадежно замедленном парижском ритме сеется дождь.
Г-н Руэ выходит из такси, расплачивается с водителем, дает двадцать пять сантимов на чай. Несмотря на дождь, он проделал почти весь путь пешком, под зонтиком, размеренным шагом, и лишь в начале предместья Сент-Оноре кликнул машину.
Дверь дома открыта только на одну створку. В вестибюле желтый свет; стены отделаны темными деревянными панелями в человеческий рост; лестницу устилает темный ковер, прижатый медными штангами. Лифт опять остался на шестом этаже: жильцы на шестом вечно забывают его спустить; надо будет раз и навсегда сделать им внушение через консьержку — ведь он владелец этого дома. Он ждет, заходит в узкую клетку, нажимает на третью кнопку.
Звонок отзывается далеко в глубине квартиры. Сесиль отворяет, берет у него шляпу, мокрый зонт, помогает снять черное пальто, и спустя несколько минут они уже сидят втроем за столом в тяжеловесной столовой, в неизменном свете лампы.
Обстановка вокруг них кажется вечной; мебель и все вещи выглядят так, словно были всегда и живут своей гнетущей жизнью, не заботясь о трех существах, манипулирующих ложками и вилками, и о Сесили, одетой в черное с белым, которая бесшумно скользит по комнате в мягких тапочках.
Подают второе, за столом слышны только вздохи, и Антуанетта витает где-то далеко. Потом поднимает голову, видит справа и слева от себя два стариковских лица, и в глазах у нее мелькает ужас и удивление; она словно впервые заметила мир, который ее окружает; она похожа на человека, проснувшегося в незнакомом доме. Она не знает, кто эти двое, такие, впрочем, привычные, торчащие по бокам от нее, как два тюремщика; они не имеют к ней никакого отношения, ее ничто с ними не связывает; ей совершенно незачем сидеть с ними рядом, дышать тем же воздухом, что эти две хилые груди, разделять их угрожающее молчание.
Время от времени г-жа Руэ взглядывает на нее и всегда не просто так, и каждое ее слово таит в себе второй смысл.
— Вы больны?
— Мне как-то не по себе. Я была у мамы. Решила пройтись пешком по улице Коленкур. Там было ужасно ветрено. Кажется, меня прохватило.
Г-жа Руэ наверняка понимает, что она плакала, видит, что веки у нее набухли и горят.
— Вы были на кладбище?
До Антуанетты не сразу доходит. На клад…
— Нет… Сегодня не была. У мамы мне стало нехорошо, зазнобило…
На глазах у нее наворачиваются слезы, она готова расплакаться, того и гляди заревет прямо здесь, за столом, если не сделает над собой усилия, но это были бы беспричинные рыдания: она не думает о человеке, который не пришел сегодня, она несчастна вообще: ничего не случилось, просто все плохо.