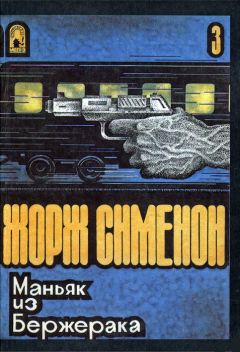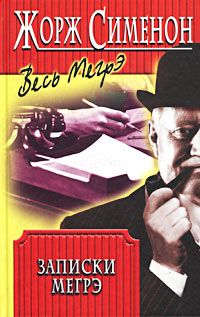Жорж Сименон - Вдовец
Все это было, конечно, раньше, до Жанны, он ведь все еще продолжал надеяться. И часто дело кончалось тем, что он устремлялся вниз, на улицу. Ему известны были и другие полутемные улицы в других кварталах, с точно такими же гостиницами и женщинами, которые также стучали каблучками по тротуару.
И он тоже заглядывал им в лицо, как это делали другие, те, за кем он наблюдал из своего окна. Ему неважно было, красивы ли они, какая у них фигура. Он вглядывался в их глаза, рот, выражение лица. Он научился распознавать с первого взгляда, кто станет насмехаться над ним, кто будет бранить его, кто проявит нетерпение, а кто парализует его своей материнской жалостью.
Неужели Жанна поняла все это? Неужто возможно, что кто-либо способен понять это, кроме него самого?
Еще прежде, до того как он стал вдовцом, у него было смутное ощущение, что в их квартале к нему относятся как к человеку, не похожему на остальных, и часто думал — не догадываются ли они? Он чувствовал с их стороны какое-то недоброжелательное любопытство, эти люди словно старались понять, что же у него неладно.
Жанна вошла в его жизнь случайно. У него не было никакой задней мысли, когда он бросился поднимать ее с тротуара и оказался, в сущности, вынужденным привести ее к себе.
Случилось это совершенно неожиданно. Потом была их ночь, а после этого он свою жизнь построил вокруг Жанны, — не могла же она этого не чувствовать. Она была самым ценным его достоянием. Он хотел, чтобы она была счастлива. Это было самым главным делом его жизни.
И не ради себя, не для того, чтобы чувствовать себя ее благодетелем, не из благодарности. Ему нужно было знать, что на свете есть человек, который счастлив, благодаря ему.
Теперь он спрашивал себя: понимала ли она это? Он не был уверен, что понимала. Он и в самом себе начинал сомневаться.
Каждый день с утра он работал, чинил свои карандаши, мыл кисти, чистил перья, потом еще немного работал, а после, сидя в своем кресле или за столом, за одинокой трапезой, он думал о Жанне. И у него было странное чувство, что ее образ становится все менее четким, что он как бы отодвигается на второй план и что в конечном итоге человек, которого он страстно стремится постигнуть, это он сам, Бернар Жанте.
А может быть, все эти восемь лет он жил не столько с ней, сколько с самим собой? Разве не было для него самым главным — самый факт ее присутствия? Не была ли она лишь дополнением, а может быть, необходимым свидетелем?
Но свидетелем чего?
Однажды днем она ушла от него, чтобы умереть в номере какой-то гостиницы, о существовании которой он никогда не слышал, где-то в другом квартале. Какой-то горничной она подарила платье и туфли, в которых ходила здесь, на бульваре Сен-Дени. При ней не нашли ни сумочки, ни удостоверения личности, ничего, что шло бы от него, что имело бы отношение к нему.
Это-то он сразу понял там, на улице Берри, об этом свидетельствовали цветы, они откровенно выражали ее волю — отрешиться от всего, что было связано с ним. Он ей цветов никогда не дарил. Как-то она принесла с рынка букет, он не смог скрыть своего неудовольствия, она стала его расспрашивать, и он в конце концов сознался, что цветы его раздражают.
Это была правда. Они напоминали ему о деревне, которую он не любил, о чинных садиках предместий, вроде садика его брата Люсьена, один вид которого внушал ему какой-то непонятный страх.
Смерть Жанны была бегством, и бежала она от него.
Он должен знать — почему. Имеет же он право знать это.
Ему это необходимо, от этого зависит вся оставшаяся ему жизнь, вот почему так важно было то письмо.
Даже если она написала всего несколько строк, он хоть узнает, каким он ей казался, каким его видят люди, каким он был в глазах той, которая восемь лет подряд была рядом с ним, наблюдала его жизнь.
В «Искусстве и жизни» господин Радель-Прево пропустил две среды и только на третью сказал ему несколько смущенно:
— Ах, да, Жанте, я узнал о том, что у вас случилось, позвольте выразить вам мои соболезнования.
Чувствовалось, что он не уверен, должен ли говорить это, и ждет реакции собеседника.
— Благодарю вас. Я очень тронут.
— Вы все еще так расстроены? Начинаете понемногу приходить в себя?
Затем, случайно взглянув на портрет дочери:
— Я хотел спросить, как вы теперь устраиваетесь с детьми, но вспомнил — у вас их ведь нет. Когда вы в этом году поедете в отпуск?
— Я не собираюсь уезжать из Парижа.
— Может быть, вы и правы, сейчас повсюду столько народа. А моя жена с детьми в Эвиане, собираюсь к ним недельки на три, уеду в пятницу…
Париж постепенно пустел. В издательствах, для которых он работал, то и дело отсутствовал кто-нибудь из сотрудников.
Некоторые отделы вовсе закрывались. Потом он стал свидетелем обратного движения — началось возвращение в город, сначала служащие, начиная с самых мелких, а потом, уже в конце сезона, — патроны, те и после возвращения продолжали еще проводить воскресенья на море или в собственных виллах.
В одну из сред, возвращаясь с улицы Франциска Первого, он неожиданно повернул на улицу Берри. Он всегда знал, что еще вернется сюда. Он долго стоял на тротуаре против гостиницы «Гардения», видел, как туда вошла парочка. Женщина смеялась, у мужчины был самодовольный вид, он немного напоминал господина Радель-Прево…
Горничной-итальянки не было. Он попытался вычислить, в котором часу она должна смениться.
Он собирался еще вернуться сюда.
В этот день он долго шагал по улицам и думал. А когда лег, не мог никак заснуть, хотя и очень устал, и часа два пролежал с открытыми глазами.
И никто уже не стоял за дверью, ожидая его зова!..
2
Как-то днем, часов около двух, его удивило непривычное движение наверху. Это шумел не Пьер. Это были шаги взрослого человека, временами топчущегося на одном месте, как это бывало в тех случаях, когда мадемуазель Кувер примеряла платье какой-нибудь заказчице. Теперь это случалось все реже — с тех пор, как зрение ее стало катастрофически ухудшаться, ей уже мало кто доверял шить новое, и она пробавлялась лишь починкой и перелицовкой.
Через некоторое время он услышал шажки старой девы уже на лестнице, а примерно четверть часа спустя, случайно взглянув в окно, увидел ее на противоположной стороне бульвара на автобусной остановке.
Она была при полном параде, в перчатках, шляпке, в туфлях, которые никогда почти не надевала и из которых выпирали распухшие ее лодыжки.
Почему его вдруг так заинтересовало, куда она собралась? Может быть, ей надо навестить какого-нибудь родственника, заболевшую подругу или получить где-то деньги? Они давно уже жили в одном доме, но, в сущности, он ровно ничего не знал о ней.